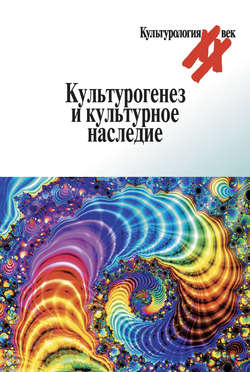Читать книгу Культурогенез и культурное наследие - Коллектив авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Э. С. Маркарян и В. М. Массон: у истоков возрождения отечественных культурогенетических исследований
А. В. Бондарев (Санкт-Петербург). Вклад Э. С. Маркаряна в становление отечественных культурогенетических исследований
ОглавлениеВпервые генетика культуры как новая область исследований была открыта в начале 1920-х гг. акад. Н. Я. Марром и его учениками. Был определен ее предмет – генезис и эволюция культуротворческих процессов, предложен специальный комплекс генесиологических методов для их исследования, очерчена содержательная область, обозначен круг ключевых проблем.
В 1926 г. в Российской (Государственной) академии истории материальной культуры по инициативе акад. Н. Я. Марра была учреждена и весьма активно работала под его руководством секция генетики культуры, которая в общей структуре ГАИМК получила особый межотраслевой статус, выступая своего рода теоретико-методологическим центром всей Академии[21]. И хотя это первое специализированное учреждение по изучению генетики культуры и просуществовало всего четыре с небольшим года – с 1926 по 1929 г., – за это время его сотрудникам удалось сделать необычайно много, а главное – было задано само направление дальнейших поисков на десятилетия вперед[22]. Странно, но именно эта наиболее ценная страница научного творчества Н. Я. Марра как раз и оказалась на долгие десятилетия совершенно забыта и не рассматривалась ни одним из исследователей, изучавших его наследие. Заблуждения «нового учения о языке», засилье «марристов» и сталинские репрессии 1930-х гг. затмили в памяти последующих поколений ученых то главное, что открыл науке акад. Марр.
Изучение фундаментальных и прикладных проблем генетики культуры, предпринятое в рамках деятельности этой секции, объединило крупнейших отечественных ученых различных специальностей: акад. Н. Я. Марр (председатель), акад. С. Ф. Ольденбург, акад. В. В. Бартольд, акад. С. А. Жебелев, чл. – корр. Б. В. Фармаковский, чл. – корр. Д. К. Зеленин, чл. – корр. Д. В. Айналов, чл. – корр. А. Е. Пресняков, чл. – корр. А. А. Спицын, А. А. Миллер (заместитель председателя), Н. Н. Павлов-Сильванский (секретарь), И. И. Мещанинов, С. И. Руденко, П. П. Ефименко, М. В. Серебряков, И. А. Орбели, Д. А. Золотарев, К. К. Романов, Г. И. Боровко (Боровка), Н. М. Маторин, С. И. Ковалев, Н. И. Гаген-Торн, И. И. Яковкин, от аспирантов – М. И. Артамонов, А. А. Иессен и др. Причем в работах секции помимо сотрудников Академии принимали участие специалисты, не принадлежавшие к ее составу: сотрудники Музея антропологии и этнографии АН СССP В. Г. Богораз-Тан, Б. Н. Вишневский и Л. Я. Штернберг; глава московской палеоэтнологической школы Б. С. Жуков; одаренная ученица Марра, литературовед и специалист по античной филологии О. М. Фрейденберг, а также многочисленные сотрудники и аспиранты из Яфетического института АН СССP и т. д.
Однако начавшаяся в нашей стране в конце 1920 – начале 1930-х гг. советизация и догматизация науки, а затем и последовавшие гонения на все генетические отрасли знания на корню пресекли тогда это в высшей степени важное направление. Была дискредитирована вся генетическая терминология, особенно применительно к изучению социально-культурных процессов, а смысл некоторых генетических понятий был существенно редуцирован (например, изучение антропогенеза, социогенеза и этногенеза именно в 1930–1950-х гг. было сведено в основном к поискам начального периода их происхождения в первобытности). Это и понятно: работать над этими фундаментальными генетическими вопросами было безопаснее на далеком материале первобытности, чем на основе изучения их дальнейшего протекания в более близких к современности эпохах. Такое редуцированное понимание генетического вопроса отчасти укоренилось в отечественной научной литературе и даже обыденном сознании. В результате была сделана попытка изгнать саму идею изучения генетического аспекта развития из области общественных наук, подменив ее сталинским истматом, что привело к длительному торжеству агенетизма (термин Б. Ф. Поршнева) в нашей стране. Поэтому когда в последующем исследователи вновь приходили к постановке культурогенетических проблем, все приходилось начинать заново, повторяя во многом траектории научного поиска своих предшественников. Так, например, в 1968 г. Ст. Лем в своем труде «Философия случая» выдвинул стохастическую концепцию культурогенеза[23]. Согласно Ст. Лему, культурогенез – это длительный процесс самоусложняющейся игры, которая, не имея внешних парадигм, должна создавать их сама[24]. Ст. Лем писал так: «Культурогенез есть заполнение люфта между сообществом и миром, т. е. того промежутка, в котором мир, получив от сообщества адаптационную дань, сохраняет по отношению к нему нейтралитет»[25]. По его мнению, чем для внешнего выражения органической жизни служит код наследственности, тем для сознательной жизни – язык данного этноса. Между специализацией или видообразованием в природе, с одной стороны, и генезисом языков, который сопровождает культурогенез – с другой, существуют как общие сходные черты, так и определенные динамические различия. Поэтому оба эти процесса, по словам Лема, могут (хотя только отчасти) служить друг для друга моделями[26]. В результате своих размышлений Лем приходил к построению обобщенной модели генетического процесса: «всякий творческий процесс, развертывающийся в достаточно обширных масштабах, характеризуется недоопределенностью на стадии зарождения, затем стадией парадигматического укрепления и, наконец, упадком».
Ст. Лем обращал особое внимание на стохастичность в процессах культурогенеза. Он указывал, что этот люфт между сообществом и миром постепенно начинает заполняться поведенческими актами, поначалу случайными, а затем прилаживающимися друг к другу по законам зарождающегося культурного синтеза. По словам Лема, «процесс культурогенеза – это нечто гигантское, растянутое на века (когда данная культура возникает из предыдущей) или даже на десятки тысячелетий (когда, как на заре антропогенеза, надо было “все придумать самим, на традиции не опираясь”)»[27]. Далее он утверждал, что культура, рождающаяся из другой культуры, тоже под давлением полученной ею наследственности, не столь многосторонне свободна, как была какая-нибудь протокультура при своем зарождении. Поэтому Лем приходил к выводу, что «при начале культурогенеза вариабельность была самой большой, и тогда возникли тысячи форм культуры, чьих поздних потомков смогла впоследствии зафиксировать сравнительная антропология. Поэтому же существовавшая вначале автономия в выборе направлений развития подверглась в дальнейшей истории культуры постепенным ограничениям, хотя полностью не исчезла»[28].
Воздействие концепции культурогенеза Ст. Лема прослеживается в той или иной степени в работах многих исследователей, затрагивавших данную тематику (в том числе у А. П. Окладникова, Л. Н. Гумилёва, Э. С. Маркаряна, Ю. М. Лотмана, М. К. Петрова, В. П. Бранского, А. Я. Флиер, А. А. Пелипенко, И. Г. Яковенко и др.).
21
Бондарев А. В. Неизвестная страница истории отечественных культурогенетических исследований: секция по генетике культуры ГАИМК (1926–1929 гг.) // Культурогенез и культурное наследие. Культурологические исследования’ 2009: сб. научн. тр… СПб.: Астерион, 2009. С. 22–27.
22
См. подробнее: Бондарев А. В. Вклад ГАИМК – ИИМК РАН в становление отечественных культурогенетических исследований // Проблемы культурогенеза и культурного наследия: сборник статей к 80-летию Вадима Михайловича Массона. СПб.: Инфо Ол, 2009. С. 36–87.
23
Lem St. Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii. Krakо́w: Wydawnictwo Literackie, 1968.
24
Бондарев А. В. Основные направления теоретического изучения культурогенеза // Мир философии – мир человека: прил. к журналу «Философские науки»: [сб. ст.] / [редкол.: Ю. Н. Солонин (пред.), М. С. Уваров и др.]. М.: Гуманитарий, 2007. С. 398–399; См. также: Орнатская Л. А. Культурогенез в концепции С. Лема: Homo Faber как творец избыточного // Человек как творец и творение культуры. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. С. 283–295.
25
Лем Ст. Этика технологии и технология этики. Модель культуры / сост., предисл., пер. с пол. К. В. Душенко. Пермь: РИФ «Бегемот»; Абакан: ТОО «Центавр»; М.: Лаборатория теории и истории культуры ИНИОН РАН, 1993. С. 72–73.
26
Лем Ст. Философия случая / пер. с пол. Б. А. Старостина. М.: АСТ, 2005. С. 27–28.
27
Лем Ст. Философия случая. С. 396.
28
Лем Ст. Философия случая. С. 397.