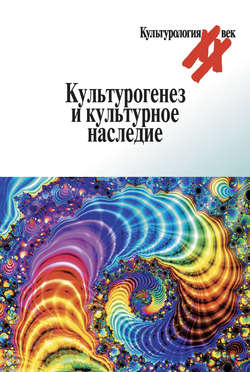Читать книгу Культурогенез и культурное наследие - Коллектив авторов - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ю. Е. Берёзкин (Санкт-Петербург). В. М. Массон и социальная антропология
(вторая половина XX – начало XXI в.)
IV
ОглавлениеОдну из интересных проблем подобного рода предлагает нам история южного Туркменистана и северо-восточного Ирана в период между концом IV и началом II тыс. до н. э. Исторический переворот, произошедший в этом ареале в конце соответствующего периода, замечателен тем, что не может быть охарактеризован в терминах «прогресса/ регресса» и демонстрирует пример того, насколько разные типы обществ способны существовать в сходных природных условиях и на примерно одинаковом уровне развития технологии.
Начатые В. М. Массоном в 1985 г. раскопки поселения Илгынлы-депе, покинутого жителями в начале III тыс. до н. э., показывают, что к этому времени местная община численностью 1000–1500 чел. скорее всего не имела организационного центра, а состояла из независимых домохозяйств – как более, так и менее влиятельных и богатых. На это указывает наличие в большинстве жилищно-хозяйственных комплексов парадного помещения, предназначенного для приема гостей и совершения каких-то обрядов, и отсутствие на поселении сколько-нибудь крупного (а потому заметного в современном рельефе) объекта, который мог бы рассматриваться как общинный храм. О том же свидетельствует и отсутствие погребений, которые выделялись бы над общим уровнем. Лишь в одном позднем захоронении найдена крупная медная булавка[125]. В остальных обнаружены керамическая чашка (редко две), иногда каменная бусинка, либо инвентаря нет вообще.
В поздний период существования памятника (два верхних строительных горизонта и, может быть, еще один, архитектура которого не сохранилась, а материал оказался на поверхности) в культуре Илгынлы-депе появляются черты, связанные с так называемым геоксюрским комплексом. Для него характерно: 1) использование песка, а не органики в качестве отощителя при изготовлении небольших тонкостенных сосудов открытых форм (чаш); 2) новый тип орнаментации керамики с включением таких элементов, как мальтийский крест, ступенчатая пирамидка, лесенка, сетка; 3) изменения в иконографии женских статуэток (прежде всего глаз – теперь не круглых, а удлиненных). Время, на протяжении которого эти изменения внедрялись, трудно точно измерить, но это явно не был моментальный акт, а скорее период жизни двух-четырех поколений людей. Ни на Илгынлы-депе, ни на других памятниках Средней Азии и Ирана, где геоксюрская керамика зафиксирована (Алтын-депе и поселения Геоксюрского оазиса, Шахри-Сохте в Систане, Саразм на Зеравшане) проследить ее генезис не удается. Возможно, что стиль был сознательно выработан в течение короткого времени как выражение неких новых (нам, естественно, неизвестных) религиозных идей. Нельзя полностью исключать, что конечным источником для геоксюрской иконографии были росписи на посуде джемдет-наср и на стенах прото-эламских зданий. Ничего более близкого ни по форме, ни территориально отыскать во всяком случае не удается.
За пределами Илгынлы-депе наиболее характерной особенностью геоксюрского комплекса являются круглые в плане погребальные камеры с коллективными захоронениями, однако ни на одном из соответствующих памятников слои, соответствующие самому началу распространения геоксюра, не исследованы сколько-нибудь достаточно. На Илгынлы-депе камер во всяком случае нет. Близ поверхности здесь обнаружено одно коллективное захоронение[126], но это не камера, а неглубокая круглая в плане яма с перемешанными останками семи человек. При этом ни в ней, ни в других (одиночных и парных) захоронениях ни разу не найдено геоксюрских чаш, а лишь только традиционные краснолощеные и ялангачские (с параллельными полосками вдоль венчика). Само отсутствие новой керамики в погребениях служит дополнительным подтверждением того, что геоксюрский комплекс был связан с религиозными представлениями и поэтому не мог не вступить в определенный конфликт со старыми верованиями.
На протяжении почти всего III тыс. до н. э. геоксюрский комплекс на востоке подгорной полосы Копет-Дага в Южном Туркменистане эволюционировал медленно. Судя по материалам Алтын-депе, все это время, вплоть до периода Намазга V, в иконографии сохранялись изобразительные элементы геоксюрского происхождения, представленные сперва на расписной керамике, затем на бронзовых или медных печатях-амулетах[127]. Существовала (и возрастала?) имущественная дифференциация погребений, коллективных и индивидуальных[128], но при этом различия в составе и ценности инвентаря оставались умеренными, не свидетельствуя ни о четком обособлении каких-либо групп, ни о существовании действительно непреодолимых имущественных различий между ними. Парадные помещения домохозяйств выделялись в основном наличием очага-подиума, но не имели тех элементов декора, которые были характерны для Илгынлы-депе. Характерно, что даже самые крупные, уникальные помещения периода Намазга V (25,5 и 18 м2) были в несколько раз меньше соответствующих парадных комнат на Илгынлы-депе (80–90 м2). В рядовых домохозяйствах эта разница была еще больше – 40–60 м2 (против 5–8 м2)[129]. Факты подобного рода можно расценить следующим образом.
В III тыс. до н. э. в Южной Туркмении (так же как, судя по материалам Шахри-Сохте, и в Систане) единство общества продолжало основываться на горизонтальных связях, а не на вертикальной иерархии, но механизм этих связей несколько изменился. Те социально-имущественные различия между домохозяйствами, которые ранее находили свое оформление в размерах и декоре парадных помещений, теперь оказались выражены прежде всего в различиях в погребальном инвентаре. Что за этим стоит конкретно, сказать пока трудно. Данные изменения совпадают во всяком случае с ростом численности общин (от 1–1,5 тыс. на Илгынлы-депе до 5–7 тыс. на Алтын-депе и, возможно, до 20 тыс. на Шахри-Сохте), прогрессом технологии (бронза, гончарный круг, двухъярусная обжигательная печь) и расширением ремесленного производства.
Дальнейшие события рубежа III–II тыс. до н. э. в чем-то напоминают распространение геоксюрского комплекса, а в чем-то и совершенно своеобразны. В это время, по-видимому, опять распространяется новый культ, о чем свидетельствуют находки в захоронениях трех неизвестных ранее типов явно ритуальных предметов – так называемых жезлов, колонок и дисков. Они обнаружены на Алтын-депе и на иранском Тепе-Гиссаре в слоях, предшествующих оставлению жителями этих поселений. Считается общепризнанным, что из подгорной полосы Копет-дага люди потянулись в дельту Мургаба, где существовали большие массивы еще не освоенных, но пригодных для орошения земель. Подобно геоксюру, Бактрийско-Маргианский Археологический Комплекс (БМАК) возникает по историческим меркам мгновенно, по-видимому заимствуя элементы из таких столь отдаленных областей, как Сирия или Сузиана, но не восходя прямо ни к одной из предшествующих или соседних культур[130]. В обоих случаях (геоксюр и БМАК) мы имеем, видимо, дело с так называемыми «кризисными культами», или «движениями обновления»[131], за короткий период разрушающими традицию и позволяющими возникнуть новым структурам. Особенностью БМАК является разрыв с предшествующими формами социальной организации. Монументальные дворцово-культовые комплексы в сочетании с небольшими рассеянными земледельческими поселениями резко отличаются от крупных поселений типа Алтын-депе и Шахри-Сохте, лишенных значительной общественной архитектуры. Судя по сокровищам, как обнаруженным в погребениях Гонура, так и оказавшимся в разграбленных захоронениях и попавшим в музеи Америки и Европы[132], в БМАК формируются резкие, подавляющие различия в погребальном инвентаре. Если в III тыс. до н. э. к социальным верхам относились квалифицированные ремесленники[133], то бактрийско-маргианская элита наверняка была связана с войной и отправлением культа. Этот новый тип социальной организации оказался в условиях региона настолько устойчивым, что в основе своей сохранился до современности. К. Ламберг-Карловский сопоставляет политические образования периода поздней бронзы с туркменскими ханствами XIX в.[134], хотя этнокультурные различия между ранними и поздними обществами колоссальны.
Два возможных объяснения исчезновения в регионе горизонтально организованных социальных структур и смены их вертикальными иерархическими кажутся достойными внимания. Одно связано с внешними обстоятельствами – ростом военной активности из-за вероятного появления в ареале или на его границах индоевропейских племен. Второе касается хозяйства и даже быта: сосредоточение большинства населения на огромных поселениях имеет очевидные неудобства и объяснялось, скорее всего, неумением организовать управление в отсутствие непосредственного контакта между членами коллектива[135]. Наличие властной элиты неизбежно стимулирует производство престижных ценностей, совокупность которых создает то, что мы именуем «цивилизацией». Но означает ли это, что на предшествовавшие БМАК общества могут быть наклеены ярлыки типа «первобытность», «вождество», «союз племен», «военная демократия» или даже «мультиполития» и «протогород» (слитно)? По разным причинам все они либо явно ошибочны, либо не передают исторической специфики. По-видимом у, единая линейная классификация социумов в принципе невозможна, и их следует сопоставлять лишь по конкретным параметрам – технологическим, демографическим, организационным и пр.
Десять лет назад казалось, что крупные поселения подгорной полосы Копет-дага и БМАК относятся пусть не к разным «стадиям», то во всяком случае к разным хронологическим периодам в истории среднеазиатско-иранского региона. Однако сейчас находки месопотамской и протоиндийской печатей, да и сопоставление более рядовых материалов, характерных для разных памятников, позволяют датировать возникновение Гонура XXIII–XXII вв. до н. э., т. е. началом периода Намазга V. В это время на Алтын-депе появляются первые колонки, диски, жезлы и сам монументальный комплекс, известный под условным названием «зиккурата». Таким образом, среднеазиатские общества совершенно разного типа на протяжении нескольких веков сосуществовали и взаимодействовали, что делает задачу реконструкции их социальной структуры и политической организации особенно интересной и трудной.
125
Metal objects from Ilgynly-depe / N. F. Solovyova, A. N. Yegor’kov, V. A. Galibin, Yu. E. Berezkin // New Archaeological Discoveries in Asiatic Russia and Central Asia. SPb: IIMK RAN, 1994. P. 31–35; fig. 2, 1.
126
Курбансахатов К. Изучение энеолитических слоев на западной окраине Илгынлы-депе // ИАН ТуркмССР. СОН. 1990. № 6. С. 34–38.
127
Массон В. М. Алтын-депе // ТЮТАКЭ. Л.: Наука, 1981. № 18; Кирчо Л. Б.: 1) Изучение слоев эпохи позднего энеолита на Алтын-депе в 1984–1989 гг. СПб.: ИИМК РАН, 1991; 2) Заключение // Хронология эпохи позднего энеолита – средней бронзы Средней Азии. Погребения Алтын-депе. СПб.: ИИМК РАН, 2005. С. 512–515; Kircho L. B.: 1) The beginning of the Early Bronze Age in Southern Turkmenia on the basis of Altyn-depe materials // East and West. 1988. № 38 (1–4). P. 33–64; 2) Seals and their imprints in the early agriculture asemblages (new materials from Southern Turkmenia) // Varia Archaeologica Hungarica II. 1989. P. 123–129.
128
Алекшин В. А. Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ (по археологическим материалам Средней Азии и Ближнего Востока). Л.: Наука, 1986. С. 55, 64–75; Берёзкин Ю. Е. «Город мастеров» на древневосточной периферии. Планировка поселения и социальная структура Алтын-депе в III тыс. до н. э. // Вестник древней истории. 1994. № 3. С. 29–31.
129
Берёзкин Ю. Е. «Город мастеров»… C. 29; Берёзкин Ю. Е., Соловьева Н. Ф. Парадные архитектурные комплексы Илгынлы-депе // Археологические вести. 1998. № 5. С. 86–123, табл. 1.
130
На пути открытия цивилизации. Труды Маргианской археологической экспедиции / П. М. Кожин, М. Ф. Косарев, Н. Ф. Дубова (ред.). СПб.: Алетейя, 2010; Мамедов М. Древняя архитектура Бактрии и Маргианы. Ашхабад: Культурный центр посольства ИРА в Туркменистане, 2003; Сарианиди В. И.: 1) Печати-амулеты мургабского стиля // Советская археология. 1976. № 1. С. 42–68; 2) Новый центр древневосточного искусства // Археология Старого и Нового Света. М.: Наука, 1982. С. 68–88; 3) Древности страны Маргуш. Ашхабад: Ылым, 1990; 4) Гонур-депе. Город царей и богов. Aşgabat: Miras, 2005; Hiebert F. T., Lamberg-Karlovsky C. C. Central Asia and the Indo-Iranian borderlands // Iran. 1992. № 30. P. 3.
131
La Barre W. Materials for a history of studies of crisis cults: a bibliographic essay // Current Anthropology. 1971. № 12 (1). P. 3–27; Wallace A. F. Revitalization movements // American Anthropologist. 1956. Vol. 58. P. 264–281.
132
Amiet P. L’Age des Echanges Inter-iraniens. 3500–1700 avant J.-C. Paris: Musе́e du Louvre, 1986; Pottier M.-H. Materiel funeraire de la Bactriane Meridionale de l’Age du Bronze. Paris: Editions recherche sur les civilisations, 1984; Tosi M., Wardak F. The Fullol hoard // East and West. 1972. № 22 (1–2). P. 9–17.
133
Берёзкин Ю. Е. «Город мастеров»… C. 34; Piperno M. Socio-economic implications from the graveyard of Shahr-i Sokhta // South Asian Archaeology. Naples: Instituto Universitario Orientale, 1977. № 1. P. 123–139.
134
Lamberg-Karklovsky C. C. The Bronze Age Khanates of Central Asia // Antiquity. 1994. № 68. P. 398–405.
135
Берёзкин Ю. Е. Америка и Ближний Восток…