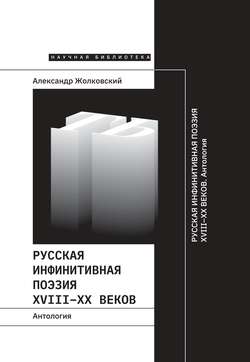Читать книгу Русская инфинитивная поэзия XVIII–XX веков. Антология - Группа авторов - Страница 18
АНТОЛОГИЯ
Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)
ОглавлениеИС встречаются у П. более 30 раз – в лирике, поэмах и драматических произведениях.
В «Гавриилиаде» (1821) есть ИС 1+6:
Они должны, красавицы другие, Завидовать огню твоих очей; Ты рождена, о скромная Мария, Чтоб изумлять адамовых детей, Чтоб властвовать над легкими сердцами, Улыбкою блаженство им дарить , Сводить с ума двумя-тремя словами, По прихоти – любить и не любить… Вот жребий твой…
В драме «Борис Годунов» (1825) довольно длинные ИС встречаются дважды:
Зачем и мне не тешиться в боях, Не пировать за царскою трапезой? Успел бы я, как ты, на старость лет От суеты, от мира отложиться , Произнести монашества обет И в тихую обитель затвориться (Григорий; «Ночь. Келья…»; ИС 2+3);
Что делать мне? Ужели буду ждать <…> Не лучше ль Предупредить разрыв потока бурный И самому….. Но изменить присяге! Но заслужить бесчестье в род и род! Доверенность младого венценосца Предательством ужасным заплатить (Басманов; «Ставка»; ИС 1+1+4; в связи с оборотом Не лучше ль… ср. замечание П. по поводу № 22).
Несколько серий есть в «Полтаве» (1828), например, ИС 6:
Он мальчик бойкой и отважный; Два-три сраженья разыграть , Конечно, может он с успехом, К врагу на ужин прискакать, Ответствовать на бомбу смехом, Не хуже русского стрелка Прокрасться в ночь ко вражью стану; Свалить как нынче казака И обменять на рану рану (Мазепа о Карле); ср. еще ИС 4 в «Воеводе» (1833): Я скакал во мраке ночи Милой панны видеть очи, Руку нежную пожать; Пожелать для новоселья Много лет ей и веселья, И потом навек бежать; ИС есть также в «Графе Нулине» (1825) и «Тазите» (1830).
В «Каменном госте» (1830) есть ИС 6: Вокруг тебя Еще лет шесть они толпиться будут, Тебя ласкать, лелеить и дарить И серенадами ночными тешить И за тебя друг друга убивать На перекрестках ночью (Дон Карлос – Лауре).
ИС 3 открывает ст-ие «Прощание» (1830):
В последний раз твой образ милый Дерзаю мысленно ласкать , Будить мечту сердечной силой И с негой робкой и унылой Твою любовь воспоминать;
и охватывает всю вторую половину ст-ия «К ***» («Нет, нет, не должен я, не смею, не могу…»; 1832):
Ужель не можно мне, Любуясь девою в печальном сладострастье, Глазами следовать за ней и в тишине Благословлять ее на радость и на счастье, И сердцем ей желать все блага жизни сей, Веселый мир души, беспечные досуги, Всё – даже счастие того, кто избран ей, Кто милой деве даст название супруги.
[Пушкин 1937–1949]
24–28. Евгений Онегин
24. Глава первая
I
«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полу-живого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чорт возьмет тебя?»
1823
25. Глава первая
ХI
Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленья,
Невинных лет предубежденья
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук.
Преследовать любовь, и вдруг
Добиться тайного свиданья…
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!
1823
26. Глава шестая
VI
Бывало, он трунил забавно,
Умел морочить дурака
И умного дурачить славно,
Иль явно, иль исподтишка,
Хоть и ему иные штуки
Не проходили без науки,
Хоть иногда и сам в просак
Он попадался, как простак
Умел он весело поспорить,
Остро и тупо отвечать,
Порой расcчетливо смолчать,
Порой расcчетливо повздорить,
Друзей поссорить молодых
И на барьер поставить их,
VII
Иль помириться их заставить
Дабы позавтракать втроем,
И после тайно обесславить
Веселой шуткою, враньем. <…>
1826
27–28. Глава осьмая
Письмо Онегина к Татьяне.
<…>
Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой всё ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть… вот блаженство!
<…>
Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной —
И слышу гневный ваш укор.
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать – и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени,
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Всё, всё, что выразить бы мог,
А между тем притворным хладом
Вооружать и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас веселым взглядом!..
1831
24–28. В «Евгении Онегине» ИП использовано в десятке мест (гл. I, IV, VI, VIII), причем серии довольно однотипны: зависимые, часто длинные: № 24: ИС 1+1+1+5; № 25: ИС 13; № 26: ИС 2+(7-1/2) – двухэтажность с двумя раздельными ИФ, зависящими от одного члена длинной серии: …заставить помириться, дабы позавтракать… и… обесславить; № 27: ИС 8, зависящая от блаженством, появляющимся после всей серии; № 28: ИС 7-(2-1). Инфинитивы занимают все возможные позиции в строках. Это ИП опирается на традицию XVIII в. – отстраненное изображение поведения, диктуемого характером персонажа или типовым положением, в которое он попал, – но модифицирует ее игрой с точками зрения и переводом в Я4.
В более или менее чистом виде традиция представлена в портрете Зарецкого (№ 26); в № 25 и других, неинфинитивных, зарисовках характера и времяпровождения Онегина (см. I: 5, 6, 10, 11, 12 и опущенную строфу 13-ю) сатирический портрет светского денди сочетается с оттенком любования и авторской причастности. Интересный вариант такой двойственности – в эмблематической 1-й строфе романа (№ 24), где сатирическое общее место (притворство наследника у одра богатого родственника) дано как рефлексия самого этого якобы харáктерного персонажа (Какое низкое коварство..!); а зеркальное ее обращение – ИС 5-1 в IV: 8, 9, где, напротив, от имени лирического «я» поэта (хотя и совершенно безлично) сообщаются истины, оказывающиеся созвучными мыслям Онегина: Кому не скучно лицемерить, Различно повторять одно, Стараться важно в том уверить, В чем все уверены давно, Всё те же слышать возраженья, Уничтожать предрассужденья <…> Так точно думал мой Евгений…
Вершины игра с харáктерным ИП достигает в «Письме Онегина»: описание нелепого поведения несчастного влюбленного (ср. «Портрет» Ржевского, № 3) превращено в страстный романтический монолог от 1-го лица (с опорой на Б. Констана: «[J]’aurais un tel besoin de me reposer de tant d’angoisses, de poser ma tête sur vos genoux, de donner un libre cours à mes larmes…»; «Adolphe», 3).
29. Анджело
Часть вторая. VI
Клавдио
Так – однако ж… умереть,
Идти неведомо куда, во гробе тлеть
В холодной тесноте… Увы! земля прекрасна
И жизнь мила. А тут: войти в немую мглу,
Стремглав низвергнуться в кипящую смолу,
Или во льду застыть, иль с ветром быстротечным
Носиться в пустоте, пространством бесконечным…
И всё, что грезится отчаянной мечте…
Нет, нет: земная жизнь в болезни, в нищете,
В печалях, в старости, в неволе… будет раем
В сравненьи с тем, чего за гробом ожидаем.
1833
29. Довольно точный перевод (11 строк Я6 со смежной рифмовкой) монолога из «Меры за меру» Шекспира (1604; III: 1; 15 строк белого Я5):
Ay, but to die , and go we know not where; To lie in cold obstruction, and to rot ; This sensible warm motion to become A kneaded clod; and the delighted spirit To bathe in fiery floods or to reside In thrilling region of thick-ribbed ice; To be imprison’d in the viewless winds, And blown with restless violence round about The pendent world; or to be worse than worst Of those that lawless and incertain thought Imagine howling – ’tis too horrible. The weariest and most loathed worldly life That age, ache, penury, and imprisonment, Can lay on nature is a paradise To what we fear of death.
Тема, интонация и ИП сходны со знаменитым инфинитивным монологом из «Гамлета» (1601), так что № 29 может считаться и вкладом П. в традицию его переводов (Ж-2000). Две ИС (3+4) практически абсолютные, лишь слегка подрываемые местоименным тут; можно считать их и единой ИС 7 с перебивкой. В оригинале одна длинная ИС 8 (или 9, если считать и эллиптичное [to be] blown), ретроспективно подчиненная перебивающей конструкции ’tis too horrible.
30. (Из Пиндемонти)
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Всё это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависить от властей, зависить от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
– Вот счастье! вот права…
1836; оп. 1857, 1889
30. Заголовок был задуман как подцензурная мистификация, но при жизни ст-ие опубликовано не было, и до 1889 г. печаталось с цензурными пропусками. Длинная ИС 5 занимает, благодаря распространяющим деепричастным оборотам, 8 строк в конце стихотворения (из общего числа 21) и читается как абсолютная – вплоть до появления финального резюме (Вот…); ее предвещают ИС (2-1)+2 в начале и середине.
Негативная первая половина ст-ия написана короткими предложениями в 2-3 строки, позитивная заключительная – инфинитивная – образует единое предложение, иконизирующее своей длиной, обилием переносов и последовательным удлинением инфинитивных кусков ту свободу, о которой идет речь. Медитация об идеальной свободе включает типичные для ИП передвижения в пространстве (скитаться здесь и там). Неполная последняя строка Вот совмещает две традиции заключительного Вот…: классическое сатирическое резюме (ср. №№ 7, 13) и романтический возглас восторга (ср. № 32). См.: Ж-2005б.
31. <Русалка>
[IV] Днепр. Ночь
Русалки
[Веселой толпою
С глубокого дна
Мы ночью всплываем,
Нас греет луна.]
Любо нам порой ночною
Дно речное покидать,
Любо вольной головою
Высь речную разрезать,
Подавать друг дружке голос,
Воздух звонкий раздражать,
И зеленый влажный волос
В нем сушить и отряхать.
1829–1837
31. ИС 1+5, покрывающая целиком вступительный хор «Русалки», примечательна принадлежностью к фольклорной струе ИП. В драме в общей сложности пять ИС, в том числе в начальных сценах, ср.:
ИС 4: Ох, то-то все вы, девки молодые, Все глупы вы. Уж если подвернулся К вам человек завидный, не простой, Так должно вам его себе упрочить. А чем? разумным, честным поведеньем; Заманивать то строгостью, то лаской; Порою исподволь обиняком О свадьбе заговаривать – а пуще Беречь свою девическую честь… (Мельник);
ИС 4+3 <…> а вольно им, Небось, подманивать, божиться, плакать И говорить: тебя я повезу В мой светлый терем, в тайную светлицу <…> Им вольно бедных девушек учить С полуночи на свист их подыматься, И до зари за мельницей сидеть (Дочь).