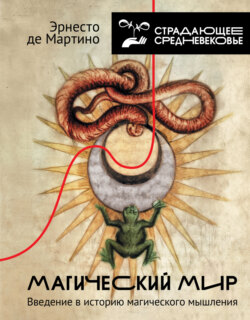Читать книгу Магический мир. Введение в историю магического мышления - - Страница 10
Беспокойная мысль
3. Гуманитарные науки и философия
3.1. Спасение посредством магии
ОглавлениеДженнаро Сассо посвятил Де Мартино увесистый том[44], который невозможно обойти вниманием – столь разнообразные темы в нем обсуждаются и так высока планка научной строгости исследования. Продемонстрированная автором глубина анализа делает эту книгу заслуживающей отдельного рассмотрения. Опираясь на текст Де Мартино, автор размышляет о принципах и герменевтических процедурах в гуманитарных науках, об истории религий и этнологии из специфического ракурса. Мы остановимся на тех главах «Магического мира», которые философ подвергает суровой критике, побудившей нас по-новому взглянуть на некоторые из ключевых мест этой книги. Сассо останавливается на центральном аргументе «Магического мира»: по его мнению, связь динамического кризиса присутствия и спасения посредством культуры не была в достаточной мере логически обоснована.
Или спасение осуществляет (или должно осуществлять) самое расколотое, а потому уже более не сущее, «я»; в этом случае, очевидно, спасения быть не может. Или же спасение осуществляет «я», и тогда неверно, что это «я» прошло через «необратимую» потерю и утрату себя, подвергшись опасности небытия в самых крайних ее формах […]. В первом случае спасение хоть и необходимо, но невозможно. Во втором оно хоть и возможно, но не нужно. Не нужно, потому что оно и без того заключено в «я», которое, как предполагается, является для него субъектом. Есть, разумеется, и третья возможность. Она заключается в том, что спасение осуществляется tertium quid [чем-то третьим], а именно самой магической энергией, которая, воздействуя на процесс разрушения «я» ab extra [извне], останавливает его и предотвращает гибельный исход. Однако подобная конструкция совершенно чужда как логике Де Мартино, так и экзистенциальной драме магического. В самом деле: она противоречит самому ее понятию, ибо не позволяет ей стать тем, чем она должна быть сообразно своему имени[45].
Рассмотрим третью из предложенных гипотез, так как первые две ясны и без того. С точки зрения Сассо для разрешения кризиса посредством магического ритуала не достает главного, а именно сознательного согласия субъекта принять на себя грозящий ему кризис, чтобы затем его преодолеть: преодолеть его можно – замечает философ – только при условии, что магический человек найдет в себе достаточно энергии, чтобы победить недуг утраты себя и воссоединиться со своей самостью, которая могла погибнуть[46]. Иными словами, нельзя требовать способности преодолеть кризис от безличной силы («магической энергии»), которая, приходя извне, сводит индивида к простому объекту. В основных своих чертах интерпретативная схема Сассо основывается на следующей системе оппозиций: внутреннее/внешнее, ab intra/ab extra [изнутри/извне], сознательное/бессознательное. Возникает закономерный вопрос, в какой мере эта схема может быть использована для понимания динамики, конституирующей магическую драму. В этом контексте следует прежде всего отметить, что «магическая энергия», выступающая в облике абстрактной силы, не существует сама по себе, а только в той мере, в какой она воплощается в системе взаимосвязанных институтов и практик ритуального характера, которые являются неотъемлемой частью культурной традиции конкретных сообществ, населяющих магический универсум. Это соображение смещает фокус рассмотрения на способность институтов содействовать преодолению кризиса. Взгляд Сассо на этот вопрос нашел свое отражение в следующем пассаже, дополняющем приведенный нами выше:
Все же необходимо спросить себя, как возможно, чтобы в том, что более не есть присутствие или, по крайней мере, находится на пути к этому печальному исходу, мог бы, однако, звучать и обозначать свое присутствие «голос», зовущий его к спасению. Нельзя не задаться вопросом, как в терпящем крушение субъекте может действовать такая воля к спасению, что институционализированные формы магии как бы проникают в него и укрепляют его душу, которая, казалось бы, должна была быть парализована шоком и травмирована[47].
В заключительных словах этой цитаты, какими бы парадоксальными они ни казались, как раз и содержится, пусть автор этого и не предполагал, ключ к решению проблемы. То, что на первый взгляд кажется совершенно неправдоподобным, в полной мере становится таковым, если мы оставляем уровень абстрактной логики и сосредоточиваемся на магической инаковости в ее исторической конкретности и помещаем ее в подобающий сравнительный контекст. Это означает также, что мы должны обратиться за помощью к этнографической литературе, чтобы понять, в результате какого процесса «институциональной ткани магии» удается проникнуть в человеческий субъект и изнутри него расслышать голос, зовущий на помощь. Необходимо в этом месте предпринять краткий экскурс, чтобы проиллюстрировать в общих чертах феномен первостепенной важности, касающийся формирования социальных субъектов в лоне цивилизаций, который мы, в силу чистой условности, продолжаем именовать «примитивными» или «магически-примитивными»; речь идет о теме, неразрывно связанной с проблемой трансмиссии коллективного культурного наследия. Наследие это рождается из истории (оно представляет собой осадок культурных завоеваний и выборов, следующих друг за другом в потоке времени) и живет в истории, в коллективной памяти любого сообщества, питающей его и, когда нужно, модифицирующей его и дополняющей. Традиция включает в себя как то знание, которое можно было бы определить как «теоретическое», так и систему практик, адаптированных к различным обстоятельствам существования: именно из ее глубин произрастают культурные ценности, лежащие в основании общинного устройства и воплощающих его институтов. Именно в эту среду проникает «институциональная ткань магии»: речь идет о самом драгоценном коллективном благе, которое наследуется обществом от предшествующих поколений и должно передаваться подрастающим поколениям, чтобы позволить им интегрироваться в социальную ткань.
В «примитивных» цивилизациях институтом, предназначенным для формирования будущих членов общества, являются племенные инициации; неофиты приобретают статус социальных субъектов в результате сложного процесса, в ходе которого они овладевают культурным багажом, необходимым для полноценного взрослого существования. Если сосредоточить внимание на мире, исследуемом Де Мартино, то окажется, что человеческие субъекты, чтобы их воспринимали в качестве таковых, должны, на стадии инициации, интериоризировать ценности и техники, которыми полна культура, укорененная в магическом мышлении. Эта культура обусловливает характерный для оных субъектов способ восприятия реальности, моделирует их внутренние реакции, проникает в их память, которая, ab intra [изнутри], подсказывает жесты, формулы, способы действия, необходимые для того, чтобы противостоять угрозе разрушения присутствия.
В магической цивилизации социальные субъекты переживают травмирующие ситуации в форме парадигматических событий, которые им уже приходилось переживать раньше в «ином» измерении и которые им нужно теперь воспроизвести в настоящем. Сам кризис не является «просто кризисом»: он включается в ограниченное число кодифицированных представлений, составной частью которых является компенсаторный момент спасения. В этот список входят институциональные мотивы атаи, заклинания, сглаз и защита от него, магическая сила, подражание и т. д. Ничего не остается на долю случая и личной инициативы. Равным образом, ситуации, в которых чаще всего возникает для присутствия риск неустойчивости, также предопределены:
[…] одиночество и усталость, вызванные длительным странствием, голод и жажда, неожиданная встреча с опасным животным, столкновение с непредвиденными событиями и т. д. могут подвергнуть тяжелому испытанию способность «вот-бытия» к сопротивлению. Душа легко бы «сгинула», если бы благодаря творческой активности и опоре на надежную традицию не стало возможным остановить сползание вниз, в бездну, грозящее присутствию уничтожением[48].
Завершая наше рассуждение, мы можем констатировать, что стратегии интерпретации, примененные Сассо, не слишком хорошо подходят для того, чтобы разобраться в специфической динамике магической драмы. Жесткая приверженность логико-философским методам, не допускающая ни малейших уступок историко-антропологическому и историко-религиозному подходу, исключает возможность выявить те формы субъективности и самосознания, которые ускользают от наших ментальных схем. Решение выбрать в качестве отправного пункта своего анализа этически-индивидуалистическую модель субъекта не позволила Сассо осознать подлинность перехода от кризиса к спасению, сообразно тому, как этот переход представляется в магическом мышления. Этот переход философ считает неправдоподобным вследствие того, что он не является плодом внутренней работы субъекта. Рецензент развенчивает схему Де Мартино – и, следовательно, всю архитектонику его произведения, – потому что считает пропасть между полюсами исторической драмы магического мира непреодолимой. Анализ тем, рассматриваемых в следующих параграфах, позволит нам проверить с новых точек зрения как обоснованность обвинения в недостаточной логической строгости, которое адресует Де Мартино его критик, так и валидность аргументов, приведенных нами для опровержения этого обвинения.
44
Sasso G. Ernesto De Martino fra religione e filosofia. Napoli: Bibliopolis, 2001.
45
Ibid. P. 227.
46
Ibid. P. 228.
47
Ibid. P. 228 sg.
48
См. ниже с. …