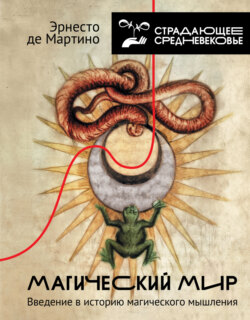Читать книгу Магический мир. Введение в историю магического мышления - - Страница 13
Беспокойная мысль
4. Культура и гражданский долг
Оглавление4.1. Между рефлексией и интроспекцией
Здесь начинается новый путь, двигаясь по которому пишущий эти строки дерзает выдвинуть свою собственную гипотезу относительно того, как следует читать «Магический мир», вновь возвращаясь к вопросу, сформулированному в прологе: возможно ли почувствовать близость этого труда к нам, к нашим политико-культурным интересам, к злободневным вопросам дня сегодняшнего, или же следует скорее видеть в нем лишь свидетельство культурного события, несомненно, важного, но далекого от нас, пусть и принадлежащего к не столь уж глубокому прошлому? Чтобы дать подобающий ответ на этот вопрос, необходимо взглянуть на текст Де Мартино из новой перспективы, обратившись к двум из числа многочисленных исследователей «Магического мира»: Джузеппе Галассо и Чезаре Казесу. Из их трудов, различных по своим методам и установкам, мы почерпнули весьма ценный материал для рефлексии и точного формулирования мысли.
Дж. Галассо предпринял – среди прочего – взвешенный критический анализ книги Де Мартино[60], наглядно демонстрирующий сложность ее устройства и невозможность вместить ее в предустановленные идеологические схемы: слишком много различных элементов и источников вдохновения в ней соединились. Что касается этнологических интересов автора, то, как справедливо полагает Галассо, истоки их следует искать в культурном круге Кроче:
У Кроче Де Мартино нашел уже полностью эксплицированными все линии противопоставления между натуралистической логикой и истористским дискурсом, в духе которого он сформулировал те тезисы, на которых построил свою книгу – ему оставалось просто воспроизвести их, ничего не меняя[61]. У Омодео[62] он позаимствовал более специальный побудительный мотив для преобразования этнографического исследования в историческое исследование религий и религиозности, которому суждено было вплоть до самого конца оставаться характерной чертой метода этого исследователя[63].
Если верно, что модель историзма у Де Мартино восходит к философии духа, то так же верно, что эта связь не превращается в род догматической приверженности, не меняющейся со временем; речь идет, скорее, о критическом отношении к историзму Кроче, которое опирается на стремление переосмыслить его на фоне тех исторических миров, историческому опытом которых он не обязан своим возникновением[64]. Требование интеллектуальной свободы, обусловленное спецификой объекта исследования, которое все громче звучит в процессе исследования, пока не производит из себя автономную систему мышления, представляет собой, по нашему мнению, живой нерв «Магического мира». Истоки этой свободы Галассо находит в антиметафизической установке Де Мартино:
Именно антиметафизическая установка привела […] Де Мартино к такому выводу, который, если посмотреть на его исходные принципы, от него едва ли можно было ожидать. Речь идет о декларируемой им невозможности интерпретировать магизм «в спекулятивных категориях, господствующих ныне в исторических исследованиях». […] Магизм, как историческая эпоха, рассматривалась Де Мартино как находящаяся за пределами исторической, человеческой логики позднейших времен. Магизм не был призван решать проблемы искусства, логики, философии, права, политики, экономики, этики и тому подобное. Напротив, он имел дело с проблемой, предшествующей вышеперечисленному: с проблемой «укоренения присутствия в мире», придания начального импульса истории цивилизации […] посредством полагания в бытие трансцендентального единства «я»[65].
Понимание инаковости магизма затрагивает также план языка, который должен каким-то образом учитывать эту инаковость и уже не может ограничиваться рамками традиционного исторического сознания. Изобретение лингвистических средств с широкой областью приложения, в которых можно различить влияние эссенциалистской понятийности, сопровождается разработкой новаторского концептуального аппарата. Оба эти процесса были инициированы стремлением высветить культурную специфику магического мира и реконструировать во всей полноте его сложность.
Де Мартино – не догматический мыслитель, а не знающий покоя интеллектуал, осознающий все новаторство своих исследований, готовый ставить под вопрос собственные выводы, без устали совершенствуя их и теоретически углубляя. Основной предмет его размышлений – сложные взаимоотношения между этнографическим историзмом и философией духа. Первая глава «Смерти и ритуального плача» соединяет в себе результаты тернистого пути критики и самокритики, начавшегося после публикации в 1948 г. монографии под влиянием критического отзыва Кроче. Де Мартино признает двусмысленность, заключенную в понятии присутствия, которое можно истолковать как «докатегориальное единство личности». В то же время, он продолжает защищать состоятельность основополагающего тезиса «Магического мира» о риске утраты присутствия, понимаемом как утрата самой возможности удержаться в границах культурного процесса, продолжить его дальше и усилить энергией выбора и действия[66].
Стремление Де Мартино проблематизировать собственный концептуальный аппарат не всегда оценивалось по достоинству, взвешенно, как выражение «ищущего мышления», больше заинтересованного в том, чтобы сомневаться в собственных достижениях, выявлять свои недостатки и достоинства, чем в том, чтобы защищать свою несомненную истинность. Эта установка, свойственная тому, кто вступает на неизведанную или плохо разведанную территорию, аналогична принципу «пробовать снова и снова»[67]. Он отказывается от того, чтобы в склонности к самокритике, даже весьма суровой, видеть готовность отказаться от наиболее революционных тезисов «Магического мира», дальше всего отстоящих от принципов философии Кроче, вызванную особым почтением к интеллектуальному авторитету «Учителя». Отсюда распространенная формула «возвращения к Кроче», подразумевающая отступление Де Мартино с наиболее передовых теоретических позиций. В этом отношении образцовыми представляются нам критические замечания Ч. Казеса, вызванные предубежденностью его против Кроче и сформулированные под влиянием исследований Ренато Сольми, которые заставили его недооценить монографии, последовавшие за «Магическим миром»[68]. Нам, напротив, кажутся обоснованными соображения Галассо, который так определил смысл неизменной предрасположенности Де Мартино к интроспекции и саморефлексии:
Не существует, можно сказать, ни одного элемента в его творчестве, который на следующем этапе не подвергся бы анализу и реконструкции […]. С этой точки зрения не будет большим насилием над реальностью утверждать, что весь корпус трудов Де Мартино представляет собой не более и не менее чем историю души. И если кто-нибудь увидит в этом ограниченность этого исследователя, ему следовало бы возразить, что речь идет об истории души, которая всегда стремилась к максимально полному совпадению с окружающим миром и с историческим моментом, и потому он постоянно отвергал соблазны эксклюзивизма и обособленности[69].
Сильную сторону очерка Чезаре Казеса, «Введение в Де Мартино», можно видеть в том, что он высветил тайную связь, выраженную в форме намека, но имеющую глубокие основания, между тезисами, сформулированными в «Магическом мире», и временем появления этого произведения, трагическим временем финального периода Второй мировой войны. В этой книге, написанной, вероятно, между 1944 и 1945 гг., не заметно явных следов военных событий, которые, однако, очень близко коснулись автора и в которых он лично принимал участие, как мы увидим в дальнейшем. И все же в здесь различимо эхо того драматического периода: заслуга Казеса заключалась в том, что он прочел между строк у Де Мартино
60
Galasso G. Croce, Gramsci e altri storici. Milano: Il Saggiqtore, 1978. P. 373–486.
61
Речь идет о «Натурализме и историзме в этнологии».
62
Де Мартино был учеником Адольфо Омодео.
63
Galasso G. Croce, Gramsci e altri storici… P. 374 sg.
64
De Martino E. Morte e pianto rituale… P. 7.
65
Galasso G. Croce, Gramsci e altri storici… P. 410.
66
De Martino E. Morte e pianto rituale… P. 16.
67
Эта формулировка почерпнута из «Комедии» Данте (Р. III, 3); в пер. М.М. Лозинского, впрочем, не подходящем к контексту, она передается как «Прибегнув к доводам и прекословью» – прим. пер.
68
Cases C. Introduzione a De Martino // Id. Il testimone secondario. Saggi e interventi sulla cultura del Novecento. Torino: Einaudi, 1985. P. 151–159.
69
Galasso G. Croce, Gramsci e altri storici… P. 389 sg.