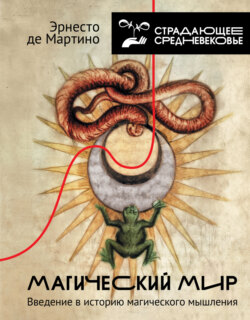Читать книгу Магический мир. Введение в историю магического мышления - - Страница 4
Беспокойная мысль
1. Реконструкция текста
1.2. «Магический мир появляется на свет в человеческой истории»
Оглавление«Магический мир» возник не из этнографического исследования, проведенного от первого лица, как было, к примеру, с «Землей угрызений»; эта книга родилась из того, что обычно называют «кабинетной этнологией». Де Мартино опирается на значительное количество монографий по этнологии, чтобы извлечь из собранных в них материалов систему постоянных элементов, на основе которой можно было бы составить историко-культурный портрет магизма. Как мы видим, это вовсе не похоже на коллекцию практик и идеологий, призванных удовлетворить интерес к экзотике. Читатель найдет в приложении превосходный анализ – плод трудов Джино Сатты – этнографических источников «Магического мира» и modus’а operandi его автора.
Следующая цитата переносит нас в самую сердцевину проблематики, рассматриваемой во второй главе, очевидно, наиболее содержательно насыщенной, оригинальной и увлекательной. Чтобы нагляднее представить читателю исследовательский стиль Де Мартино, мы предварили эту цитату двумя вопросами, имеющими фундаментальное значение: как в магизме конфигурируется отношение между человеческим присутствием и миром?[6] Каковы отличительные черты существования в цивилизации магического типа?
В магическом универсуме присутствие еще только стремится обрести единство перед лицом мира, удержаться в собственных границах; равным образом и мир еще не отдалился от него, не предстоит ему как нечто отдельное и независимое. В этой исторической ситуации, в этой культурной драме «присутствие в мире» и «мир, открывающий себя в присутствии» постоянно состязаются между собой за определение границ, и в этой борьбе случаются сражения, поражения и победы, а также перемирия и компромиссы[7].
Этот отрывок дает представление о сложности проблем, с которыми имеет дело автор, а также о высоте его слога, которая делает рассматриваемое произведение уникальным образцом научной литературы, не только итальянской. В магическом универсуме границы между человеческим присутствием и внешним миром неопределенны и подвижны; присутствие еще не стало полностью автономным от мира, а мир, в свою очередь, еще не дистанцировался от присутствия, не «заключен» в прочные границы. В этом текучем состоянии возникает опасность того, что присутствие может просочиться в мир, слиться с ним, расточиться в нем. Но столь же велик риск того, что мир может поглотить присутствие и низвергнуться в хаос, несовместимый с элементарным представлением о культуре, которое основано на различении этих двух категорий, необходимом для их взаимодействия. Вероятность того, что магическое присутствие может исчезнуть, указывает на неустойчивое состояние, в котором оно пребывает, а текучесть, таким образом, становится принципом его существования. Это становится очевидным из сравнения с нашим присутствием, которое предстает как уже «определенное и гарантированное», как четко оформленный культурный продукт, способный упорядочивать реальность, также выступающую в облике наличной данности. В горизонте магического сознания, напротив, утверждение автономии присутствия образует финальный пункт, исход процесса in fieri; те же соображения имеют силу и для магической реальности, не имеющей готового основания, но долженствующей быть учрежденной.
Исследование магизма начинается с анализа особых психических состояний, встречающихся в самых разных культурных контекстах. Состояния эти в разных обществах именовались по-разному: olon, latah, амок. В них присутствие лишалось своей целостности и контроля над собственными действиями под влиянием непривычных и/или пугающих явлений, которые в конце концов завладевали им и подчиняли его себе. Так, человек в состоянии латах, внимание которого захватывало колыхание ветвей под действием ветра, начинал пассивно подражать этим движениям, сам превращаясь в качающееся дерево. Распад присутствия порождает слитность, общность (coinonia) с внешним миром, иначе говоря, подвластность неконтролируемым импульсам.
Магия появляется, чтобы подчинить кризис присутствия культурной дисциплине, облечь его в определенные формы ритуализованного поведения, придать ему социально одобряемый облик, который позволил бы предотвратить дальнейшее его распространение: ее появление полагает начало магической эпохе в истории цивилизации. Магические институты могут способствовать избавлению, если бытийный кризис осознается как проблема, нуждающаяся в решении; напротив, обострение экзистенциальной угрозы априори исключает возможность культурного контроля и, вследствие этого, «ничто наступает».
В мире магии динамика истории определяется переходом от одного полюса – кризиса «вот-бытия» – к другому, реинтеграции его в культуру. Установление отношения между «присутствием в мире» и «миром, который делается присутствующим» составляет кульминацию той драмы, в ходе которой магизм обретает свое место, появляется на свет в человеческой истории[8]. Эту особую форму историчности можно понять только при помощи герменевтических инструментов, отличных от тех, которыми пользуется западная цивилизация, опирающаяся на собственное понятие об историческом развитии и, следовательно, на соответствующие ему оценочные критерии. Осознание относительности этих последних – а равно и любых других вещей, созданных человеком, – является необходимой предпосылкой для того, чтобы открыться навстречу пониманию другого, отличного от самого себя, как субъекта культуры и истории. В противном случае на сцену вновь выходит стереотип примитивного дикаря, опутанного узами темного магизма в самом шаблонном понимании этого слова, своего рода Naturmensch’а [естественного человека].
Этнология, возведенная в ранг историографии так называемых примитивных цивилизаций, ставит перед собой цель способствовать росту исторического самосознания и, следовательно, противостоит как идеализации примитивизма в романтическом духе, за которой скрывается попытка бегства от западной культуры, так и догматическому европоцентризму, который тенденциозно исключает все отличное от самого себя из области культуры и истории.
6
Термин-понятие «присутствие», как отмечалось в исследовательской литературе, хайдеггерианского происхождения; о сложных взаимосвязях между Де Мартино и Хайдеггером см. ниже.
7
См. ниже.
8
См. ниже, с. ….