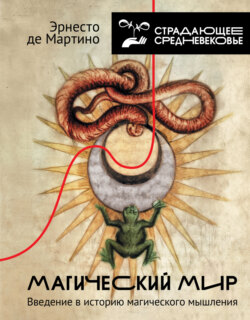Читать книгу Магический мир. Введение в историю магического мышления - - Страница 7
Беспокойная мысль
2. «Магический мир» под прицелом критики
2.1. Рецензии Бенедетто Кроче
ОглавлениеБенедетто Кроче оставил две рецензии на «Магический мир», вышедшие с небольшой разницей во времени. Сам факт, что столь маститый ученый уделил так много внимания произведению Де Мартино, можно считать молчаливым признанием его важности и новизны, не говоря уже о заслуженных похвалах автору. Следует добавить, что вес авторитетного мнения Кроче во втором из его отзывов оказал значительное влияние на рецепцию текста Де Мартино, который нередко читается сквозь призму оценок этого философа, в результате чего остаются в тени ее антропологический и историко-религиозный аспекты, которые, однако, в действительности играют первостепенную роль.
Кроче написал рецензию на «Магический мир» в год выхода в свет этого произведения[22]. Читателя, который смотрит на эту рецензию с большой временно2й дистанции, поражает глубокий анализ ключевых аргументов автора, заслугой которого Кроче считает то, что тот наконец возвел этнологию в ранг «научной истории» (severa storia), четко противопоставив ее господствующей этнологической, социологической и психологической традициям с их склонностью рассматривать эту архаическую форму духовной жизни как иррациональную, основанную на заблуждении или даже сознательной лжи: Де Мартино оказывается в одном ряду с Вико. Формулировки Кроче в его оценке рецензируемого текста полны экспрессии, свидетельствующей о живом интересе и участии:
Благодаря его [Де Мартино. – Авт.] трудам мышление примитивных народов сегодня рассматривается как этап в истории человеческой мысли, которому были уготованы особая роль и особое призвание в возникновении и развитии цивилизации, а не как нагромождение иррациональных верований и суеверий. Магизм был нужен для того, чтобы удовлетворить потребность в преодолении […] внутреннего разлада […] в эпоху, когда не существовало еще четкой границы – и даже, можно сказать, не существовало границы вовсе, – между внешней реальностью и противостоящим ей духом[23].
Вслед за Де Мартино Кроче видит в магизме исходный пункт образования основополагающих понятий, среди прочего понятия личности, представляющих собой конститутивную часть культурного наследия Запада. Позитивной оценке «Магического мира» со стороны Кроче не помешало и разногласие, которое, однако, нельзя обойти стороной. Кроче считает недопустимым релятивизацию спекулятивных категорий, пригодных для исторической интерпретации одной только западной цивилизации. Таким образом, отмечает философ, Де Мартино «отвергает неизменность категорий, подвергая их историзации, причем историзация эта возможна лишь посредством своего рода “неподвижного двигателя”» – самих категорий[24]. Хотя Кроче и упрекает Де Мартино за то, что тот смешивает «категории с историческими “фактами”», которые их порождают и изменяют», он завершает свою рецензию словами, полными уважения: «Та деталь, которую, как мне кажется, ему [Де Мартино. – Авт.] следовало бы пересмотреть, никак не умаляет значения предложенной им исторической интерпретации, в себе и для себя вполне законченной»[25].
Во втором своем отзыве, написанном в жанре краткой статьи – «О магизме как исторической эпохе» (1949)[26], – Кроче коренным образом пересматривает установки и содержательные положения рецензии 1948 г. Теперь отказ от историзации категорий предваряет порой всю острую критику концептуального замысла «Магического мира» и тех представлений о культуре, которые лежат в его основании. Столь резкая и радикальная перемена мнения, не предваренная критикой прежней позиции, вызывает недоумение и в то же время ставит вопросы, на которые мы попытаемся ответить. Кроче производит обзор трех глав книги Де Мартино, вновь и вновь отмечая апории и противоречия в них, которые он резюмирует и обобщает в следующем пассаже:
Де Мартино напоминает, что я «всегда советовал открыться навстречу новому историческому опыту и тем самым подвергнуть проверке и перепроверке, а вероятно, и изменить, и расширить пределы философии духа в свете этого опыта». Рекомендацию эту я высказывал и часто повторяю, однако, не для того, чтобы почерпнуть из этого опыта «свет» для философии, который она призвана дать сама, но для того, чтобы найти в нем «стимулы», которые способствуют обогащению и приращению философских понятий благодаря накапливаемым в опыте вариантам решения проблем. Мне совершенно чуждо намерение представить исторически изменчивыми сами категории, высшие формы любых понятий, условия любых суждений[27].
Главную мысль рецензии Кроче можно резюмировать следующим образом. На универсальную и вечную сущность категорий, которые суть условия любых суждений, не может оказать влияния новый исторический опыт: роль этого последнего, пусть он и необходим, сводится к тому, чтобы расширять область применения философских понятий, подтверждая их значимость. С этой точки зрения «Магический мир» предстает как подрывной и опасный текст, и в качестве такового он и подвергается атаке со стороны Кроче, который своими критическими замечаниями педантично и с полемическим задором, граничащим с сарказмом, стремится утвердить непреходящую значимость собственной системы мысли. Как может заметить читатель, конкретные аргументы, выдвигаемые философом, органично вписываются в эту картину: они являются, можно сказать, вариациями одной и той же темы.
Не вдаваясь в детали этой полемики, сосредоточим внимание на структуре рецензии и отметим, что в его композиции разгромная критика, которой подвергаются тезисы Де Мартино, переходит, без всякого обоснования этого перехода, в радикальную стигматизацию магической эпохи (которая безапелляционно относится им к области иррационального), как если бы существовала объективная связь между этими двумя уровнями рассуждений. Это не единственное слабое место второй рецензии. Еще более двойственное впечатление оставляет интерпретация у Кроче фигуры колдуна, которая представляет труд Де Мартино и его самого в превратном свете.
В наши дни мы с ужасом и тревогой взираем на совершающуюся перед нами драму и со страхом видим стремление погрузиться, с головой уйти в стихию иррационального, отрекшись от собственной свободы и добровольно протянув руки врагу, навстречу цепям и рабству, и прикрывая собственный недуг громким именем «исторической необходимости». Призовем ли мы, чтобы не пасть жертвой рассеяния, тех колдунов, которые уже явились перед нами в облике диктаторов монолитных и тоталитарных государств, и погрузимся в эпоху нового варварства, пока не достигнем начала времен, или же, наоборот, положимся на наши внутренние силы и дадим отпор? Ответ, перед лицом той дилеммы, перед которой мы оказались, на том перепутье, на котором мы стоим, каким бы трудным ни был выбор, представляется мне очевидным, потому что его диктует человеку его чувство долга, а утверждает в нем вера, которая не умирает. Однако тот ореол святости или, по крайней мере, почитания, которым Де Мартино окружает фигуру колдуна, помещая ее у истоков истории и цивилизации, заставляет меня задуматься[28].
Из этих строк видно, что Кроче приравнивает колдуна к современным ему диктаторам (с очевидными намеками на Гитлера и Сталина): в первом следует видеть предтечу вторых, один отсылает к другому, как в зеркальном отражении. Их объединяет «эпоха варварства», прошлого и настоящего, которое каждый из них олицетворяет и в котором оба они занимают господствующее положение. Параллелизм внушает тревогу. Но обоснован ли он? Очевидно, что нет. Подобное заключение не подтверждается этнографическим материалом. Власть, которую обретает колдун, подвергая себя смертельному риску, сходя в бездну небытия, ставится на службу другим, сохранению целостности их личности и не имеет ничего общего с политическим господством над другими в той или иной форме, подчинением их себе. К этому следует добавить еще и то, что колдун/шаман не навязывает себя общине в качестве целителя по собственному произволу; напротив, он может действовать в качестве такового лишь в силу коллективного консенсуса (эту формулировку мы заимствовали у Леви-Стросса). В конечном счете Де Мартино был прав, когда сравнивал колдуна со спасителем, а не тираном. Демонизированный образ целителя/деспота представляется нам следствием ассоциаций, почерпнутых из современности и необоснованно спроецированных на магическую эпоху, которую Кроче относит к области иррационального. Известны в связи с этим спорные высказывания философа, которые мы находим в «Философии и историографии» (здесь примитивные народы рассматриваются как сообщества естественных людей, неспособных к развитию, существ, являющихся людьми лишь зоологически, но не исторически): эти оценки, отмечает Де Мартино, показывают со всей беспощадной ясностью подлинное отношение буржуа к колониальным народам[29].
Образ колдуна/диктатора в конце концов закончил бы свою историю в списке бесчисленных творений человеческой фантазии, не вызывая большого шума, если бы он не превратился в «боевое оружие» для личной атаки на Де Мартино. Философ говорит о своей обеспокоенности тем восторженным отношением, переходящим в «боготворение», к столь зловещей фигуре со стороны историка религий. Здесь – да простят мне это выражение – философ окунает свое перо в яд, стремясь внушить читателю, что за идолопоклоннической установкой Де Мартино скрывается его тайная симпатия к современным диктаторам и, если возвратиться вспять по временно2й оси, к магической эпохе и ее мрачному протагонисту, который помещается им – ни больше, ни меньше! – у истоков истории и цивилизации. Это почти открытое обвинение Кроче в адрес Де Мартино недопустимо снижает тон полемики. Автор «Магического мира» не нуждается в защите – чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть без предвзятости его труды, в особенности «Натурализм и историзм в этнологии». Что же касается рождения цивилизации и истории, то Де Мартино не считает это событие результатом деятельности конкретного индивида, сколь бы одаренным он ни был, а связывает его с магической эпохой во всем многообразии ее проявлений, исходя из того, что именно в этот период «вот-бытие» впервые сделалось проблемой культуры, центром истории и условием свободы[30].
Какие выводы мы можем сделать, рассмотрев две рецензии Кроче? Нам кажется бессмысленным пытаться выяснить, какая из них отражает «настоящее» мнение философа, какая из них более показательна. Нам представляется, что обе они «искренни» и в разных отношениях показательны. Достаточно было бы указать на то, какие движущие причины лежат в основании каждого из этих текстов. В рецензии 1948 г. преобладает ученое любопытство и страсть к познанию; в тексте 1949 г. тон задает оборонительная позиция автора, его упорное стремление отстоять первенство и, можно сказать, «неприкосновенность» философии духа – отсюда неколебимая приверженность философа собственной позиции и полемический задор, доходящий порой до крайности. Подобная реакция не имела бы смысла, если бы «Магический мир» не воспринимался так, как он и должен восприниматься: как «опасная» и прорывная книга, которая, несмотря на внутренние напряжения, сохраняет свою революционную энергию в деле продвижения экзотической формы знания, каковое продвижение – и это самое главное – неотделимо от переопределения культурных иерархий.
В завершении этого параграфа зададимся вопросом, обращенным, прежде всего, к нам самим: спросим себя, в какой мере полемика Кроче с Де Мартино, состоявшаяся в середине прошлого века, может быть актуальна для современного читателя «Магического мира». Мы склонны ответить на этот вопрос положительно по двум причинам. Первая из них исторического характера: невозможно игнорировать тот факт, что тот спор, эхо которого продолжает ощущаться и сегодня, оставил неизгладимый след в истории итальянской культуры ключевого, послевоенного ее периода, когда она остро нуждалась в обновлении и осознавала эту необходимость. К этому следует также добавить, что дискуссия эта имеет символическое значение, потому что она отражает конфликт, угрожающий нашему времени не меньше, чем недавнему прошлому: конфликт между традиционным гуманизмом европоцентрической ориентации и новым гуманизмом, опирающимся на «другие формы бытия человека в обществе» в своем стремлении достичь более глубокого и зрелого антропологического самосознания.
Заключительное замечание: как мы указывали выше, полемика Кроче и Де Мартино в значительной степени предопределила восприятие «Магического мира». Даже если сегодня взгляд Кроче пользуется заслуженным уважением, это не должно препятствовать поиску других способов прочтения этого текста, слишком сложного, обладающего слишком богатым потенциалом для исследования (разработанным плохо или неразработанным вовсе), чтобы сводить дело к обыкновенному дежавю.
22
В Quaderni della critica. 1948. N. 10. P. 79 sgg.
23
Кроче Б. Рецензия на «Магический мир» (см. ниже, с. …).
24
См. ниже, с. …
25
Там же.
26
См. Croce B. Filosofia e storiografia. Bari: Laterza, 1949. P. 193–208.
27
Кроче Б. Относительно магизма как исторической эпохи (см. ниже, с. …; курсив наш. – Авт.).
28
См. ниже, с. …
29
De Martino E. Promesse e minacce nell’etnologia // Id. Furore Simbolo Valore. Milano: Feltrinelli, 2002 [11962]. P. 887.
30
См. ниже, с. …