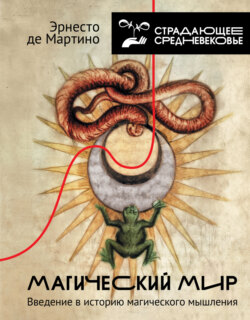Читать книгу Магический мир. Введение в историю магического мышления - - Страница 3
Беспокойная мысль
1. Реконструкция текста
1.1. Основные элементы этнологии Де Мартино
ОглавлениеДе Мартино ставит перед собой цель сформировать представление о магическом мире, отойдя от клише, распространенных в нашей культуре и питаемых застарелыми предрассудками, и отказ от которых требует тщательного исследования породившего их историко-культурного процесса. Их живучесть, очевидно, свидетельствует о неспособности западной цивилизации преодолеть границы, которые этноцентрический менталитет навязывает автономному развитию познавательного процесса. Мы еще вернемся к этому ключевому пункту. Эти предварительные рассуждения необходимы для первого подступа к исследованиям Де Мартино, которые разворачивались в двух взаимосвязанных направлениях: первое было связано с инаковостью магии или, точнее говоря, с поиском герменевтических инструментов, которые позволили бы понять ее отличительные черты; второе имеет своим предметом западную цивилизацию, индивидуирующие признаки которой диалектически возникают из столкновения с «другими формами общественного существования людей». Двигаясь в двух этих направлениях, Де Мартино воплощает в жизнь программу, набросок которой он представил в предшествующем своем труде, «Натурализм и историзм в этнологии»[1]. «Магический мир» можно рассматривать как основополагающий текст для этнологии, ориентированной на историзм и одушевленной философской мыслью, радикально отличающейся от этнологии традиционной, натуралистически-описательной, которая игнорирует неразрывную связь между познанием другого, отличного от себя (sub specie магического), и обновлением самосознания европейской цивилизации, которое и дало импульс рождению этнологии как дисциплины. В этой перспективе особенно показательны главы первая и третья рассматриваемого произведения, основные сюжетные линии которого мы рассмотрим ниже.
Мы уже указывали на предрассудки, препятствующие пониманию особого типа культуры, сложившегося в магическом мире. Они восходят к той антимагической установке, которая досталась в наследство западной цивилизации от греческой философии и христианства: эллинско-христианская антропология и антимагическая полемика, сопровождающие нашу цивилизацию на всем протяжении ее истории, создали настоящую пропасть, разрыв[2]; этот разрыв затронул, in primis, способ восприятия реальности и человеческого присутствия в мире и имел следствием некритическое и презрительное отвержение магического. «Элементарная», по сути своей пропедевтическая, обязанность, которую Де Мартино возлагает на этнологию, заключается в том, чтобы историзировать и одновременно скорректировать ту деформацию, которая была вызвана «культурным тщеславием», побуждающим абсолютизировать западную цивилизацию и, вследствие этого, принимать в расчет только ее систему категорий, априори исключая все иное из сферы культуры.
Реализация подобной задачи предполагает радикальное изменение сознания, подразумевающее признание множественности культурных миров, каждый из которых обладает собственной историей и системой ценностей. Подобная метанойя создает предпосылки для понимания «культурно чуждого» и одновременного расширения западного исторического сознания, в результате чего оно обретает способность сравнивать и соизмерять себя с другими способами существования людей в обществе[3].
Как было сказано выше, Де Мартино анализирует основания истористской этнологии во введении к «Натурализму и историзму в этнологии», помещая эту дисциплину в широкий политический и культурный контекст, который укоренен в настоящем, в проблемах, которые определяют его облик:
Наша цивилизация в кризисе: один мир рассыпается на части, другой идет ему на смену […]. Одно известно наверняка: каждый должен выбрать свое место в строю, взять на себя долю ответственности. Можно ошибаться в суждениях, но не иметь суждений нельзя. Действовать неправильно иногда можно, но нельзя не действовать. Раз это так, какова задача историка? Этой задачей всегда было – и сегодня более, чем когда-либо, – расширение самосознания, позволяющее решиться на действие. Историческое самосознание расширяется не только за счет того, что проясняется смысл институтов нашей цивилизации, и мы начинаем осознавать подлинную природу нашего культурного наследия, но также и за счет того, что мы научаемся отличать нашу цивилизацию от других, в том числе наиболее от нее далеких. Современная цивилизация принуждена мобилизовать все свои силы, чтобы преодолеть кризис, который она переживает. Историк, в силу роли, которую он играет в совершающейся драме, и лежащих на нем задач, отвечает на вызов времени, внося в дело собственный вклад, а именно бо2льшую способность к определению индивидуальных черт объекта, из которой вырастает затем бо2льшая способность к действию[4].
Де Мартино как этнолог обращает свой взор на далекие миры не для того, чтобы отстраниться от собственного, а для того, чтобы лучше его узнать, взглянув из неожиданной перспективы на исторический процесс его формирования: «далекое» и «близкое» постоянно вступают между собой в диалог, в ученую игру, взаимно отсылая друг к другу – эта игра придает силу и привлекательность всему исследовательскому проекту. Де Мартино видит свою задачу как ученого в том, чтобы поспособствовать преодолению кризиса, угрожающего самым основаниям цивилизации, к которой он принадлежит. Этот кризис предстал перед ним во всей своей остроте, если вспомнить, что «Натурализм и историзм в этнологии» был опубликован в 1941 г., а в печати оказался еще в 1940 г., когда трагедия Второй мировой войны уже разразилась. В восприятии Де Мартино Запад находится на перепутье: или он утратит самого себя, доведя до логического конца переживаемый им процесс саморазрушения, или же вернется к осознанию себя и своей истории.
Де Мартино не был глух к «вызовам времени». Осознавая это, поражаешься той интеллектуальной ясности, с которой он обосновывает выбор собственного «места в строю». Его вовлеченность в актуальные события была не абстрактной, в ней можно видеть «расширение» его деятельности как историка, который, увидев пропасть, грозящую поглотить западный мир, решил сопротивляться этой угрозе. Реакция ученого выразилась в попытке на новых основаниях перестроить историческое самосознание Запада: эта позиция опиралась на понимание того, что у истоков кризиса, постигшего нашу цивилизацию, находится забвение или даже прямое отвержение культурных принципов, исторически определявших ее облик. В этой перспективе решающее значение обретает переопределение этнологии в сторону ее историзации, что делает ее необходимым инструментом для историографии, внимательной к индивидуальным чертам своего объекта; инструментом, который позволяет историографии отличать нашу цивилизацию от других, даже самых от нее далеких.
В свете вышесказанного возникает вопрос: в каких явлениях исторического настоящего Де Мартино находит предзнаменования того мрачного призрака, что бродит по западным странам, угрожая самому существованию цивилизации? Точный ответ на этот вопрос содержится в следующем отрывке:
[…] Некоторые новейшие политико-религиозные практики, причудливые умонастроения, определенные формы апелляции к неизреченному опыту (можно вспомнить понятие Gemüt, сопрягающее в сентиментальном единстве почву и расу, расу и кровь) невозможно объяснить только из истории XIX в. и в целом – из истории нашей цивилизации. Эта история совершенно неспособна объяснить «жажду древнего атавистического опыта» у таких фигур, как Мёзер, Вагнер или Бахофен; для ума, восприимчивого лишь к европейскому опыту, непостижимо то придыхание, с которым многие немецкие ученые мужи произносят префикс ur [пра-][5].
Есть очевидные свидетельства того, что объектом критики для Де Мартино была именно национал-социалистическая идеология, а также та почва, в которой она была укоренена: его выбор «места в строю» был определен желанием возвратить европейской цивилизации, основаниям которой грозила опасность, сознание самой себя, понимание того, что2 соответствует ее культурной истории, а что2 находится в разительном противоречии с ней (например, единство почвы и расы, расы и крови). Программа, намеченная в работе 1941 г. и доведенная до завершения в «Магическом мире», утратила бы свою силу, если оказалась оторвана от того политического проекта, в который сам автор пожелал ее поместить. У нас будет возможность вернуться к этому аргументу, занимающему центральное место в композиции настоящего очерка, чтобы остановиться на нем подробнее, когда в нашем распоряжении будет достаточное количество данных. Аналогичные соображения также актуальны и для проблемы расширения исторического сознания Запада: мы были бы несправедливы к мысли Де Мартино, если бы изолировали ее от контекста, с которым она органически связана.
1
De Martino E. Naturalismo e storicismo nell’etnologia. Bari: Laterza, 1941 (2a ed. a cura di S. De Matteis, Argo, Lecce 1997).
2
Id. Il mondo magico: prolegomeni a una storia del magismo. Torino: Einaudi, 2022. P. 163.
3
Id. La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali / nuova edizione a cura di G. Charuty, D. Fabre e M. Massenzio. Torino: Einaudi, 2019. P. 325.
4
Id. Naturalismo e storicismo nell’etnologia… P. 12.
5
Ibid. P. 12–13.