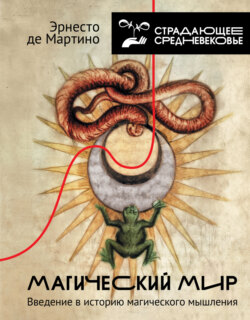Читать книгу Магический мир. Введение в историю магического мышления - - Страница 5
Беспокойная мысль
1. Реконструкция текста
1.3. Спасительная сила магии
ОглавлениеВ мире магизма любая связь с миром может поставить под угрозу хрупкое человеческое присутствие. Спасительное действие культуры включает в себя, с одной стороны, определение сфер риска, а с другой – превращение индивидуального кризиса в коллективный и, в историческом контексте самого Де Мартино, подведение конкретного, контингентно возникшего кризиса под вневременную, наделенную абсолютной значимостью модель, предлагаемую традицией. Невозможно понять спасительную функцию магии, те формы, в которых она противостоит стиранию границ между присутствием и миром, если не принимать в расчет ее институционального аспекта.
[Магия] создает ряд институтов, которые позволяют выявить опасность и преодолеть ее. Система компенсаций, компромиссов, гарантий создает возможность, прямую или косвенную, спасти присутствие. Благодаря этому культурному опосредствованию, этому созданию институтов, экзистенциальная драма каждого отдельного человека не остается изолированной, исключенной из отношений: она вписывается в традицию и обогащается тем опытом, который традиция сохраняет и передает в будущее[9].
Включить экзистенциальную драму в лоно традиции означает не принимать ее в ее рискованной объективности, а рассматривать ее как ритуальное воспроизведение драмы, уже прожитой в сфере мифа, а здесь приведенной к развязке: этот процесс изъятия из истории образует средоточие большой темы «мифологически-ритуальной деисторизации негативного», которая представляет собой – нелишним будет это повторить – самый плодотворный и перспективный результат историко-религиозных размышлений Де Мартино[10]. Диалектика, лежащая в основании институционализованной деисторизации, избавляющей от смертельной опасности утраты «вот-бытия» в исторической экзистенции, была продемонстрирована в очерке «Страх перед территорией и спасение через культуру в мифе племени акильпа о начале», который Де Мартино публиковал в приложении к «Магическому миру», начиная с издания 1958 г.[11] Это решение отвечает требованию проанализировать на конкретном материале «культурное опосредствование» и, следовательно, пролить свет на специфические способы, которыми символические практики магизма восстанавливают и поддерживают экзистенциальное основание человеческой жизни, т. е. присутствие.
В магическом универсуме шаман (или колдун, или маг: автор колеблется между различными наименованиями, и мы сохраним здесь эту неопределенность) возводится в «герои присутствия». Этой фигуре Де Мартино посвятил некоторые из самых проникновенных и известных (но зачастую плохо понимаемых) страниц своей книги. Особенность шамана заключается в его способности сознательно провоцировать кризис собственного присутствия и доводить его до крайних проявлений в ходе инициатического опыта, который он должен пережить, чтобы его роль была признана обществом. Его спуск в бездны хаоса облачен в культурные формы, его цель – исследование всей гаммы проявлений «небытия». Знания, полученные таким образом, претворяются в умение преодолевать кризис присутствия как таковой. В этом и заключается спасительная роль шамана, который предоставляет свою власть в распоряжение членов общины; он способен сделать для всех наглядным смысл кризиса и поспособствовать его преодолению, испытав на себе этот кризис во всем его многообразии.
Это означает, что благодаря спасению колдуна спасение становится возможным для всей общины, ей открывается путь к «избавлению». В этом смысле колдун оказывается самым настоящим магическим Христом, посредником бытия-в-мире для всей общины, спасителем от угрозы небытия[12].
Формулировка «магический Христос» пользовалась и пользуется заслуженной славой благодаря своей экспрессивности: подобно Христу, шаман становится для всех источником спасения, однако понимается оно совершенно иначе, чем христианский идеал, принадлежащий к радикально «другому» порядку ценностей. Сверхъестественная власть, которой наделен шаман, принадлежит к многовидному сонму паранормальных способностей – таких, как ясновидение, телепатия, пророчество, телекинез, глотание огня и т. д. – существование которых составляет одну из отличительных черт магического мира, очевидно, наиболее проблематичных в глазах западных наблюдателей. Идет ли речь о реальных способностях? Этот вопрос вызвал больше всего дискуссий (ответы на него чаще даются отрицательные) и, кроме того, подготовил почву для лабораторных экспериментов, не лишенных интереса и призванных принести «научно» убедительные результаты, на которые не оказала влияния предубежденность исследователя.
Де Мартино отдает должное этой дискуссии, но дистанцируется от нее, предлагая иную постановку проблемы, соответствующую теоретическим и методологическим принципам собственной исторической этнологии. Он отмечает, что
…проблема реальности магических способностей заключается не только в их природе, но также и в нашем понятии реальности, так что наше исследование охватывает не только субъект суждения (магические способности), но и сам приписываемый ему предикат (концепт реальности)[13].
Это замечание отсылает к основополагающей для этнологии теме: преодоление европоцентрического менталитета, которое требуется как conditio sine qua non [необходимое условие] для понимания культурно чуждого во всех его проявлениях. В рассматриваемом случае принимать в качестве критерия для суждения наше понятие реальности означает придавать ему универсальную значимость, в то время как в действительности применимость его ограничивается пределами западной цивилизации: такой подход исключает возможность объективной оценки магических способностей в историко-культурных терминах. Для этой цели необходимо принять линию мышления, опирающуюся на принцип культурного релятивизма и предполагающую осознание того, что любая цивилизация придает реальности специфическую форму, сообразную тем культурным предпочтениям, которые для нее характерны. Из этих предпосылок вытекает специфический вопрос: из каких критериев следует исходить, чтобы разрешить запутанный вопрос о реальности магических способностей?
Вопрос о том, реальны ли магические способности, и в какой мере, не может быть решен без принятия в расчет смысла реальности, которая исполняет здесь функцию предиката в суждении. Однако этот смысл может быть постигнут только посредством исследования исторической драмы магического мира[14].
Размышления, которые мы встречаем в этом отрывке, нацелены на то, чтобы под новым углом посмотреть на историческую драму магического мира, в центре которого – как будет видно далее – неустойчивое человеческое присутствие, неуверенное в себе, а значит, нуждающееся в защите со стороны культуры и утверждении себя в качестве «субъекта». Эта драма разворачивается на фоне реальности, которая сама текуча, неустойчива и находится в процессе становления. В западной цивилизации, напротив, реальность существует в форме наличной данности и, следовательно, непроницаема для магических сил. Контрастное сравнение, основной прием этнологии Де Мартино, высвечивает и другие аспекты проблемы: экспериментальная наука о природе, развившаяся на Западе, предполагает представление о природе, очищенной от всех психических «проекций» магии; на противоположном полюсе паранормальные явления подразумевают представление о природе, все еще определяемой этими «проекциями», причем не только в верованиях людей, но и в самой реальности[15]. Идея культурно определяемой природы, управляемой человеческими намерениями, которая нам кажется «скандальной», в мире магизма является нормой: именно эта идея обосновывает реальную эффективность паранормальных способностей, которые остаются по-прежнему включенными в сферу человеческого решения[16].
9
См. ниже, с. …. Курсив наш.
10
Massenzio M. La problematica storico-religiosa di E. De Martino: il rimosso e l’inedito // De Martino E. Storia e metastoria. I fondamenti di una teoria del sacro. Lece: Argo, 1995. P. 7–40.
11
Этот очерк, выросший из доклада на заседании Общества истории религий (ноябрь 1951 г.), был впервые опубликован в: Studi e Materiali di Storia delle Religioni. Vol. XXIII. 1951–1952. P. 51–66.
12
См. ниже, с. ….
13
См. ниже, с. … и далее.
14
См. ниже, с. ….
15
См. ниже, с. ….
16
Ibid.