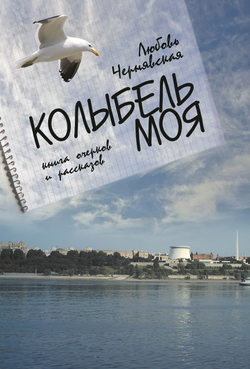Читать книгу Колыбель моя - Любовь Чернявская - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Могло ль такое быть? Да мы ж там были!
Федор, потомок Ольгия
ОглавлениеНа фотографии – седовласый, почтенных лет мужчина. Умные улыбчивые глаза, овал лица потомственного интеллигента. И, может быть, только особой формы усы отдаленно намекают на древнюю родовую связь с запорожскими казаками…
В его комнате все говорит о нем – старинные книги и альбомы, картины и небольшие зарисовки, словно окошки в природу, ясные и светлые. С фотографий, любовно вправленных в рамочки, смотрят молодые мама и отец. Рядом его портрет, выполненный одним из его друзей – Е. В. Вучетичем.
Это он, Федор Максимович Лысов – один из тех, кто дал вторую жизнь нашему городу и чье имя можно встретить в книгах и архитектурных проспектах. Потому что он – автор или соавтор проектов многих сооружений, навсегда вписавшихся в биографию Волгограда. Один из них – памятник-ансамбль на Мамаевом кургане…
Человеку свойственно воображать не только свое будущее, но и прошлое. Кто он, откуда, чья кровь течет в нем? Федору Лысову удалось восстановить историю своего рода за три с половиной столетия. Пришлось вспомнить не только рассказы деда и прадеда, но и то, что когда-то им рассказывали их дедушки.
Ф. М. Лысов
Пришлось разослать множество запросов в различные архивы. А из полученных ответов шаг за шагом, словно мозаика, складывались веточки обширного родового древа.
Фамилия Никифора Лысенко, жившего в середине XVII века, появилась среди запорожских казаков в те самые времена, которые отмечены в истории многочисленными войнами с кочевниками. Его-то и считают многие поколения Лысовых основателем своего рода. А внук Никифора Ольгий, оказывается, жил в сторожевом коше в низовьях Дона, и жена его была донской казачкой. Сказывают, «была она хорошо обучена верховой езде, владела саблей, пикой и пищалью».
Один из сыновей Ольгия, Макар, был взят на царскую службу и принимал участие в русско-турецкой войне, был лазутчиком, то есть разведчиком, у генералиссимуса Суворова. «Когда он вернулся с войны, – вспоминал прадед Федора Максимовича, – то был уже не Лысенко, а Лысовым, так как какой-то фельдфебель решил, что все лазутчики Суворова должны быть русскими и записал фамилию в реестр «на русский манер». Другой же сын Ольгия погиб. Таким образом, в последующие годы за потомками Ольгия Лысенко прочно утвердилась фамилия Лысовы».
В тридцатые годы прошлого столетия дед Федора Максимовича Григорий Лысов вместе с семьей обосновался в Лисьей балке на берегу Донца. Вскоре в Лисичанске на Донбассе началась разработка угольных копий, и Лысовы – сам Григорий и его сыновья – оказались связанными с горным делом. «Мой отец Максим Григорьевич, – писал Ф. М. Лысов в своих воспоминаниях, – будучи рослым и здоровым, попал на военную службу в Петроград. Спустя время, он окончил школу прапорщиков и получил звание фейерверкера конно-артиллерийской бригады. Служил в гвардейской части Великого князя Николая Николаевича». Сюда же, в Петроград, он привез семью. Князь с уважением относился к своим охранникам, и они жили в достатке, в отдельном доме на бывшей Миллионной улице. Позже, через много лет, когда Федор уже студентом приезжал к родителям, мать часто рассказывала ему об этом периоде их жизни. «Я родился, – вспоминал Федор Максимович, – в один из морозных и хмурых февральских ночей 1917 года, в самую Февральскую революцию. На улицах шла стрельба, проносились конные отряды. Мать лежала в клинике «Отто», которую часто посещала вдовствующая Великая княгиня Мария Федоровна. Она раздавала подарки роженицам, а младенцам – серебряные крестики. Моей матери она сказала: «Твой сын, Наталья, проживет свою жизнь сполна». Вот с этим высочайшим напутствием я и живу».
Вскоре родители переехали на Украину, в родной Лисичанск, с которым у Федора Лысова были связаны в основном воспоминания детства. Большой дом, хозяйство. Мать доила корову, а младшие дети и вместе с ними кот Тузик терпеливо ждали, когда их чашки наполнятся душистым теплым молоком. На берегу Донца мальчишки мыли лошадей, расчесывали им гривы. Лошадей Федор любил особенно – нежно и трепетно. Через много лет, в конце войны, доведется ему служить под Иркутском, в тайге. И там его верным другом станет белая лошадь с романтическим именем Зима.
Еще в далеком детстве бывал не раз Федор вместе со взрослыми на охоте. И с тех самых пор стал он страстным, заядлым охотником. Впоследствии, вспоминая свои охотничьи походы по Сибири, вдоль берега Байкала или по горам Средней Азии, он описывал их так живо и детально, что собеседнику казалось, будто он сам участвовал в той охоте. С особым удовольствием бывалый охотник вспоминал походы на вальдшнепов в наших местах – среди Волги, на острове Голодном.
Но, как говорится, охота охоте – рознь. Одно дело – пойти на лисицу да настрелять столько, чтобы хватило на шубу. И совсем другое – принести домой потрясающие впечатления, запомнить, и какой в тот вечер был закат, и как с последними лучами бесшумно выпархивали из камышей изящные длинношеие птицы…
В семье Лысовых, потомственных донбасских горняков, не было ни архитекторов, ни живописцев. Склонность к художественному творчеству почерпнул откуда-то из глубины родословной лишь последний, десятый ребенок – Федор. В тридцать седьмом Лысовых постигло несчастье. Пятеро членов семьи – отец, старшие сын и дочь, два зятя – были объявлены врагами народа и сосланы. Федор в это время учился в Харьковском инженерно-строительном институте, на факультете архитектуры. И конечно, как «сын врага народа» был бы отчислен. Но на защиту талантливого студента выступил директор института.
Федор получил диплом как раз накануне войны вместе с направлением в Ташкент, недалеко от которого на берегу горной речушки Ангрен нужно было проектировать и строить поселок для шахтеров. Но отзвуки войны докатились и сюда. В 1942 году младшего лейтенанта Лысова призвали в армию и зачислили в личный состав так называемого восстановительного поезда, подразделения которого ремонтировали железные дороги, строили мосты. Последние годы войны служил Федор Максимович под Ленинградом, в прифронтовой зоне, а потом строил железную дорогу в тайге.
И лишь в 1945 году его вызвали в Москву, в Комитет по архитектуре, и направили на восстановление Сталинграда. Отказаться было нельзя, и он поехал, втайне надеясь отработать года три и вернуться на родину, в Донбасс. Конечно, тогда Федор Лысов, как и многие другие, не знал, да и не мог знать, что, отдав сердце и душу возрождению этого израненного войной города, он уже не сможет уехать из него никогда.
С тех нор прошли десятилетия. Но впечатление от самого первого знакомства с тем, что до войны называлось городом Сталинградом, всегда были живы в его памяти. Может быть, еще через столетие кто-либо из потомков Лысова тоже заинтересуется жизнью прежних поколений своих родственников и прочтет эти строки: «Поезд двигался очень медленно. Только на третьи сутки в тусклой заре он подошел к станции Гумрак, и из вагона по обочинам полотна я увидел завалы битой военной техники, искореженных вагонов. По ним, гонимые ветром, пробегали струи снежной крупы. Обогнув холм Мамаева кургана, поезд наконец затормозил среди развалин бывшего вокзала. На наспех сколоченном щите можно было различить надпись «Сталинград». Я вышел с перрона на площадь. В полумраке увидел торчащие из-под снега скелеты разрушенных зданий. Лишь бетонные фигурки детей вокруг бывшего фонтана застыли в своем веселом танце. Среди развалин краснели кирпичной пылью тропинки. Было раннее утро, и город казался мертвым. Но постепенно из торчащих над грудой камней труб стал появляться дымок, подтверждая, что где-то в подвалах и землянках все же живут люди».
Жилой дом № 28 по ул. Советской. 1954.
Архитекторы Ф. Лысов, С. Кобелев
А люди – особенно те, кто пережил бои в Сталинграде, – не просто ютились по подвалам и ждали. Они, несмотря ни на что, верили, что смогут возродить город, видели его в своих мечтах и были готовы работать для этого вдохновенно и самоотверженно. В воздухе витала энергия созидания. Федор Максимович вскоре понял это и, вдохновляясь общей идеей, уже не чувствовал ни прежнего разочарования, ни усталости. Во многом способствовал тому удивительный человек, главный архитектор города В. Н. Симбирцев. Лысов знал его еще со студенческих лет как известного мастера, члена-корреспондента Академии архитектуры. Вместе с К. С. Алабяном Симбирцев был автором проекта монументального здания Театра Советской Армии в Москве. Здесь, на развалинах Сталинграда, он смог довольно быстро создать творческий коллектив молодых архитекторов, сплотил их, пробудил в каждом мечту. Впоследствии многие из них – В. Е. Масляев, Е. И. Левитан, Ф. М. Лысов, другие – обрели свои неповторимые имена.
Первая архитектурно-планировочная мастерская уже работала, создавались проекты застройки центральной части города. Симбирцев нещадно критиковал обилие красивостей в архитектуре, учил молодых строго следовать закону стиля. Стало традицией устраивать маленькие конкурсы на различные композиционные решения памятников и знаков, связанных с тематикой Сталинградской битвы. На конкурс, например, был вынесен и проект памятника – танковой башни, которым обозначена по городу линия обороны. Наиболее подходящими оказались предложения Симбирцева и Лысова. В результате, как говорил Федор Максимович, «мы с ним наши проекты «поженили» и получили композицию, которая и была одобрена руководством города».
К концу пятидесятых годов вступил в действие новый генеральный план застройки Сталинграда, разработанный Академией архитектуры под руководством К. С. Алабяна. Планировка центральной части города по сравнению с довоенной была принципиально изменена. Проспект Ленина, улица Советская и Набережная приобрели направление, строго параллельное Волге. Именно в эти годы была заложена та застройка центра, которая и сегодня впечатляет своей архитектурной выразительностью. Этот период настоящей, дохрущевской, архитектуры в нашем городе связан с именем В. Н. Симбирцева и его ближайших сподвижников, среди которых, конечно, был и Ф. М. Лысов.
Немало в нынешнем Волгограде строений, воплотивших творческую фантазию и талант Федора Максимовича. Жилой дом № 29 на улице Ленина по его проекту был построен в центральной части города первым. Кругом еще были развалины, а он – высокий, белый, отделанный венецианским карнизом – вырос и радовал глаз, как чудо. Кстати, в народе этот дом прозвали – «домом с петухами». Почему с петухами? Потому что «петухи», а точнее изящные фигурки лебедей, чаек, осетров, были словно вырезаны на вставках дома и служили его неповторимым украшением. Позже появились другие жилые дома – на улице Советской, а также в северных районах города – и ни один из них не повторял другой. По проекту В. Е. Масляева и Ф. М. Лысова построено одно из самых запоминающихся зданий Волгограда – Дворец профсоюзов с оригинальным полукруглым фасадом.
Но, пожалуй, более всего с именем Ф. М. Лысова связаны проектировка и строительство Памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. «Идея увековечить память о Сталинградской битве именно на Мамаевом кургане, – вспоминал Федор Максимович, – возникла у скульптора Е. В. Вучетича и архитектора Я. Б. Белопольского еще в период создания памятника солдату-освободителю в Берлине, в Трептов-парке. Ведь именно здесь, на Мамаевом кургане, были завоеваны надежды на перелом в ходе Великой Отечественной войны. Согласно проектному предложению, на юго-восточном склоне Мамаева кургана намечалось возвести памятник-ансамбль, протяженный от берега Волги до вершины кургана. У проспекта Ленина предполагалась двухъярусная «этажерка» входной площадки памятника. Далее эстакада подводила к площади «Стоять насмерть», выше которой размещались «Стены-руины».
Здание панорамы по первоначальному проекту было выполнено в виде цилиндрического объема. Слева от него, среди берез и плакучих ив возвышалась скульптура «Скорбящая мать», отражавшаяся в небольшом трапециевидном бассейне.
На вершине кургана, как на своеобразном пьедестале, размещалась главная скульптурная группа монумента. Она состояла из двух фигур: Родина-мать со Знаменем Победы в правой руке и снопом колосьев в левой, а перед нею в коленопреклоненной позе солдат, целующий колосья».
Так вот каким мог быть сегодняшний памятник-ансамбль на Мамаевом кургане. Но этот первый проект принят не был. Действительно, Сталинградская битва знаменовала собой только середину войны, и венчать памятник-ансамбль должна была по логике не статичная композиция, повествующая о начале мирной жизни, а наоборот – призывающая к дальнейшему наступлению. Было дано задание разработать другой проект. Так появилась порывистая, динамичная фигура женщины, Родины-матери, с высоко поднятым мечом. Ее волевое лицо, гневно сдвинутые брови, развевающиеся на ветру волосы – все это олицетворяло непреодолимую силу и страстный призыв к освобождению Отечества.
Как член авторского коллектива, возглавляемого Е. В. Вучетичем, Федор Максимович принимал живое участие в этой работе, начиная с первых эскизов. За те годы Евгений Викторович Вучетич стал его близким другом. Любопытно, что первое их заочное знакомство состоялось задолго до встречи в Волгограде.
– Однажды в разгар войны, – вспоминал Федор Максимович, – приехал я в Москву в командировку. И, невзирая на военную обстановку, решил пойти в Третьяковскую галерею. Она была закрыта, работала лишь единственная экспозиция в небольшом зале – горельеф из пластилина «Клятва народа». Внизу стояла подпись автора – Е. Вучетич.
Горельеф понравился Федору. Но в тот момент он, конечно, не мог знать, что эта первая встреча с Вучетичем будет иметь продолжение и сыграет огромную роль в жизни и самого Лысова, и города, ставшего его судьбой.
В пятидесятые годы в Сталинград приезжало очень много людей – началось буквально паломничество тех, чьи родственники, знакомые воевали и погибли здесь в годы битвы. За Мамаевым курганом прочно укрепилась слава главной высоты России. Тогда и было принято правительственное решение об увековечении памяти героев Сталинградской битвы.
Творческие отношения с Вучетичем вскоре переросли в личную дружбу. Бывая в Москве, Федор Максимович часто останавливался в его собственном особняке недалеко от Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. В доме располагались и мастерские художника, и жилые комнаты для гостей. В фойе и переходах было выставлено немало картин, барельефов, скульптур, собираемых еще с тех пор, когда Вучетич учился в Академии художеств, а затем работал в студии имени Грекова. Впоследствии коллекцию работ дополнили и выполненные в миниатюре копии основных скульптур ансамбля Мамаева кургана. Кстати, лицо Богатыря, вставшего на защиту Отечества, имеет портретное сходство с В. И. Чуйковым. Сама же скульптура Родины-матери, ее лицо, но мнению Лысова, повторяет портрет жены художника Веры Владимировны. Но ему придано не свойственное этой кроткой женщине выражение гнева.
С осени 1958 года до самого открытия памятника-ансамбля в Сталинграде побывало множество экскурсий, делегаций, видных военачальников. Командарм Чуйков долгое время был военным консультантом на строительстве. Великолепные впечатления сохранил Федор Максимович об этом человеке. Многочисленные, только ему известные истории о буднях Сталинградской битвы он рассказывал столь живо и с юмором, что его могли слушать часами. А еще любил Василий Иванович рыбалку на Волге, куда с удовольствием его сопровождал не менее азартный рыбак и охотник Лысов.
За эти годы довелось Федору Максимовичу встречаться со многими известными всему миру людьми – генералом де Голлем, Джавахарла-лом Неру, Фиделем Кастро. Несколько раз приезжала в Сталинград на могилу сына Долорес Ибаррури. «Однажды Вучетич пригласил меня в Ростов, – рассказывал Федор Максимович. – Там в преддверии ноябрьских праздников открывали памятник, автором которого он был. Памятник представлял собой гранитную стену, венчала которую фигура всадника на коне. Без всяких сомнений, изображен был, конечно, С. М. Буденный. На трибуне разместилось городское начальство. Был приглашен и сам герой, в то время уже старенький. Рядом со мной стоял Миша Шолохов, попыхивая трубкой. Он с любопытством поглядывал на Буденного: редкие волосы на седеющей голове, но из-за щек по-прежнему торчали стрелки некогда пышных усов. Шолохов посмеивался, наблюдая, как по привычке Буденный закручивает свои усы – это выглядело уже не залихватски, а весьма комично. «Если бы не славный ореол этого человека, мог бы получиться неплохой юмористический рассказ», – заметил писатель».
…Да, Сталинград стал для семьи Лысовых второй родиной. Уже было ясно, что именно здесь, поднимая из развалин город, Федор Максимович состоялся как зодчий, как творческая личность. И во всех трудностях и радостях всегда рядом с ним были самые надежные люди – жена и две дочери.
В Лисичанск же после войны он попал лишь в 1946 году. За время работы в Средней Азии он утратил связь с родными – ведь они оставались на Украине, на оккупированной территории. Встреча через много лет была трогательной. Мать и сестер он застал постаревшими, измученными страхом постоянных бомбежек. От них узнал, что в 1945 году его репрессированные родственники были реабилитированы, но к этому времени в живых никого из них уже не осталось.
«Ах, война, что ты, подлая, сделала!» Это и про них, про Лысовых. Сестры и жены братьев Федора Максимовича после репрессий и войны остались вдовами. У всех было по одному ребенку, причем девочки. У самого Федора Максимовича и его двоюродного брата Ростислава тоже родились дочери. То есть наследников, которые продолжили бы фамилию Лысовых, больше нет. «Наш род, – писал Федор Максимович, – присутствовал почти три с половиной столетия, но теперь доживает свой век и постепенно гаснет». Хочется добавить: именно на таких родах, крепких и надежных, как на твердой почве, всегда держалась Россия. Проходили века, бушевали войны, а они вновь возрождались и возрождали родину свою. Примером тому – обыкновенная жизнь одного из потомков запорожского казака Ольгия – Федора Лысова…