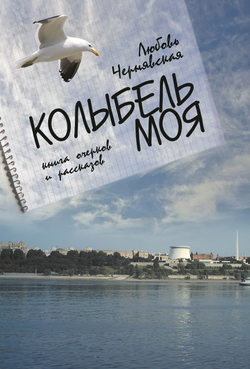Читать книгу Колыбель моя - Любовь Чернявская - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Могло ль такое быть? Да мы ж там были!
Могло ль такое быть? Да мы ж там были!
Это мой генерал!
ОглавлениеВ военной экспозиции музея – портрет девушки в пилотке. Это санинструктор дивизии Люба Хмельницкая. Юная, маленькая, но отчаянно храбрая. Была она коротко стрижена и имела среди бойцов кличку Пацан. К Любаше еще в десантном корпусе относились с особой нежностью и добрым юмором. А историю про знаменитый учебный прыжок знали все. Потом на встречах ветеранов эту историю сама Любовь Петровна рассказывала не раз:
– Десантники обязательно должны были уметь прыгать с парашютом. Я прыгала первый раз. Вытолкнули меня из люка, и вдруг необычайной силы воздушная подушка буквально прилепила меня к корпусу самолета и распластала, как лягушку. Я лежу не в силах ничего поделать. Это было в Монино, где впоследствии и происходило переформирование десантного корпуса в дивизию. Весь полк стоит внизу и хохочет, просто умирает от хохота. И вдруг у меня с ноги слетает сапог. А тут как раз генерал подъехал. Увидел все это, разгневался: «Что это за безобразие в воздухе?». В общем, кое-как я приземлилась, угодив в лужицу, подернутую ледком. Стою – одна нога в сапоге, а другая, босая, на ней. Подкатывает командир на своей «эмке». Я рапортую: «Товарищ генерал! Лейтенант медслужбы Хмельницкая учебный прыжок совершила!». Он вздохнул, велел садиться в машину и повез к полковому сапожнику шить сапоги нужного размера.
Конечно, не знал тогда комдив, что судьба еще раз сведет его с этой девушкой в Сталинграде, в бою 8 сентября 1942 года, ставшем для него последним.
23 августа и в последующие дни, как известно, город был совершенно разбит. К началу сентября сложилось отчаянное положение. Атаки не прекращались ни днем ни ночью. Обновленные подразделения дивизии дошли с боями до Верхней Ельшанки.
Наконец наступило 8 сентября. Дым грандиозного пожара из центра города доходил сюда, затмевая первые проблески рассвета. Кто остался в живых, никогда не забудет этот день, этот исторический бой. Именно он и запечатлен на главном экспонате музея – полотне диорамы. Обрамление ее выполнено на средства студентов. Автор всей композиции – скульптор М. Д. Павловский. Обгоревшая сталинградская земля, осыпавшаяся при входе в блиндаж, отсылает в мир войны, изображенный на полотне диорамы. Перед ним – бюст генерала Глазкова того же автора. Само полотно выполнено художницей Л. К. Алексеевой.
Так вот, диорама представляет самый острый, напряженный момент боя. Справа – ненавистная фашистская «рама». Она подбита и падает – бойцы радуются, бросают вверх пилотки. Об этом эпизоде боя, когда наконец подбили самолет-разведчик, рассказывали многие очевидцы. Небольшая группа пулеметчиков, вокруг них – танки со свастикой. Их много, но пройти линию обороны непросто – слишком отчаянно сопротивляются бойцы. В действительности танков было еще больше, чем изображено на картине. И все это происходило на том самом месте, где находится сейчас главный корпус и общежитие сельхозакадемии. А тогда это были бахчи, где жители Верхней Ельшанки выращивали арбузы и тыквы. Но этого не видно на полотне. Только изуродованная войной степь, никакого лесочка. Примерно в километре отсюда – высотка, где находились наблюдательный и командный пункты дивизии. Студенты решили увековечить это место – достали где-то бетонный столб, врыли его в землю как раз на этой высотке, сделали надпись. И очень долго этот самодеятельный памятник был местом, куда непременно приходили ветераны дивизии.
На заднем плане полотна диорамы видны церковь и домишки Верхней Ельшанки. Железная дорога, разбитый состав. Хорошо переданы сама обстановка и настроение: дым, пыль, взрывы, страх, ощущение близости смерти. При соответствующей подсветке создается полный эффект присутствия. Герои диорамы узнаваемы, ведь при работе над полотном художница пользовалась и фотоснимками военных лет, и воспоминаниями очевидцев.
В правом углу картины мы видим мальчика, который следит за боем. Это тоже реальное лицо – Толя Гусев, сын полка. Он, как выяснилось, остался жив. А вот разведчик Митин, за которым мальчик ходил буквально тенью и который тоже изображен на полотне, погиб.
Образы некоторых бойцов отчасти вымышлены, но от этого не менее реалистичны. Вот узкоглазое лицо: боец, видимо, ранен, на голове повязка. Может быть, это татарин Битхенов? Был такой рядовой в дивизии. Служил поваром – между боями варил кашу в походной кухне, а уж когда бой и, стало быть, бойцам не до каши, подтаскивал ящики со снарядами.
Однажды ночью фашистские разведчики похитили Битхенова. Подразделение осталось без завтрака, а некоторые поспешили обвинить его в дезертирстве. Прошел день, и вдруг уже в сумерках в расположении части показалась повозка, запряженная немецкими тяжеловозами. Повозка поварская, летит на всех парах, а в бачке похлебка плещется. Смотрят – ба, да это наш Битхенов! Спрыгнул – и к командиру: «Таварыщ камбата, кухня прыбыл!» Оказывается, его схватили, связали, засунули в мешок. Оружие, конечно, отобрали. Но не предполагали фашисты, что тщедушный татарчонок – бывший десантник и в голенище сапога у него спрятана финка. Его охранники решили пообедать. Сидят, увлекшись куриной лапшой – запах обалденный! Тут-то финка и пригодилась: выбрался он из мешка, оглушил немцев – и был таков вместе с повозкой и лапшой. На войне как на войне – смерть и смех часто рядом.
В центре полотна еще одна фигура – связист. Прообраз героя тоже реален. Это Петр Романович Шпак. Он остался жив и победным маршем прошел в составе дивизии до Берлина. Непременный участник всех ветеранских встреч, он чаще всего молчал, на вопросы отвечал неохотно, удивляя всех своей скромностью. После смерти Петра Романовича в 1985 году его супруга передала музею все награды мужа. Она же прислала и завещанные им деньги, на которые были приобретены холст и краски для диорамы. Как тут, право, не заметить: история Волгограда в долгу перед этими людьми. Они оплатили ее, и не раз.
Диорама запечатлела лишь несколько эпизодов боя. Он же продолжался бесконечно долго, многие часы. Автоматчики противника уже простреливали подходы к командному пункту дивизии. Глазков лично командовал боем, но положение становилось критическим. Вышла из строя проводная связь. Штаб необходимо было перевести на новый командный пункт. Комдив оставшимися силами пытался организовать контратаку. Но вдруг из зоны обстрела прибежал его адъютант:
– Генерал ранен!
Комдива осторожно донесли до ближайшего блиндажа. Вызвали санинструктора Хмельницкую. Рана была серьезной. Люба закрыла ее куском ваты, а чтобы остановить кровотечение, сверху, как шину, прибинтовала кобуру с пистолетом. Временами приходя в себя, генерал продолжал отдавать распоряжения. Несколько бойцов пытались вынести его с поля боя, но попали под обстрел автоматчиков. Глазков был ранен вторично – уже смертельно.
Что было дальше? Об этом рассказывал на встрече ветеранов один из тех, кто сопровождал генерала, бывший сапер Г. К. Мухальченко:
– Нам удалось спуститься в небольшую балку, выйти из-под обстрела. Затем мы вышли в расположение артиллерийской батареи 10-й дивизии НКВД. Артиллеристы дали нам машину, на которой мы повезли тело комдива к переправе… Примерно через два часа я уже докладывал начальнику штаба тыла 62-й армии подробности гибели генерала. На другой день в одиннадцать часов между двух дубов около хутора Бурковский В. А. Глазков был похоронен. Выполнив приказ командования, мы вновь возвратились в Сталинград, в свою дивизию.
Лишь спустя три года после окончания Великой Отечественной войны легендарный комдив был перезахоронен в центре Сталинграда, в Комсомольском саду. Ветераны дивизии, приезжающие на встречи в музей, непременно бывают здесь. Среди них – энергичная улыбчивая женщина, бывший санинструктор Люба Хмельницкая. Это она самой первой из бойцов дивизии откликнулась на призыв волгоградских студентов из группы «Поиск». В письме она рассказывала о Глазкове, повторяя, как заклинание: «Это мой генерал! Это я перевязывала его!»