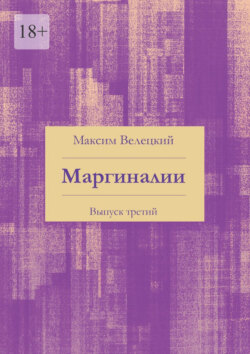Читать книгу Маргиналии. Выпуск третий - Максим Велецкий - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
120. К Гермесу Трисмегисту
Оглавление«В начале были бог и материя (hyle), та, которую греки полагают космосом <…>. Что же касается материи, то есть космической природы, и духа, то, хотя и кажется, что они не рождены чем-либо, все равно они обладают способностью рождаться и рождать и потому владеют плодотворной силой. <…> Таким образом, [материя] способна рождать без постороннего вмешательства.
От материи мы должны отличать то, что обладает способностью к зачатию при его смешении с иной природой; таково место. Космическое место, вмещающее все, что оно содержит, вероятно, не было рождено, и оно несет в себе всю Природу в возможности. <…>
Итак, космическая материя, хотя она и не рождена, имеет в себе начало всякого рождения, поскольку предоставляет всему свое лоно для зачатия. Следовательно, возможность к порождению является всеобщим свойством материи: она способна порождать, хотя сама не рождена [и] <…> обладает плодовитостью как чистым свойством».
(Из герметического трактата «Асклепий»)
Из этого текста не понятно примерно ничего – я его прочитывал десятки раз и по итогу вынужден констатировать: Гермес Трисмегист (кто бы ни скрывался за этим именем) в небольшом отрывке «Асклепия» намешал такое количество прямо противоречащих друг другу высказываний, что разобраться в представленной им космогонии совершенно невозможно.
Для начала следует сказать, что герметизм является египетской религиозной теологией первых веков христианской эры – основой этой теологии стали элементы греческой философии (в первую очередь, платонической). Несмотря на важность платонических мотивов, дошедшие до нас тексты, приписываемые Гермесу, не представляют собой единого учения и тем более не восходят к какому-то одному источнику – в них сплелись элементы всех известных на тот момент религиозных течений и философских школ. В общем, герметизм – это такое же синкретическое направление как гностицизм, неоплатонизм и христианство. Вообще говоря, в этом нет ничего дурного – в Римской империи, объединявшей все Средиземноморье, ни одна национальная культура не могла избежать внешних влияний. И, по моему глубокому убеждению, каждая из синкретических религий была куда ближе к другой, чем к тому ядру, из которой вышла: скажем, неоплатонизм и христианство были куда ближе друг к другу, чем к платонизму и ветхозаветному иудаизму соответственно.
К сожалению, у нас с исследованиями герметизма дело до сих пор обстоит не очень хорошо – так, пытаясь найти материалы с интерпретацией процитированного фрагмента, я не обнаружил почти ничего, а потому буду давать собственные толкования.
Что нам сообщается выше?
1) в начале были бог и материя;
2) материя вечна, но способна рождать;
3) материя способна рождать сама из себя без посторонней помощи благодаря внутренней плодотворной силе;
4) материя равно космическая природа и космос;
5) материя не равно пустое пространство (космическое место);
6) место объемлет всю природу (то есть всю материю);
7) место способно рождать только при воздействии иной природы;
8) место не рождено;
9) материя – лоно для зачатия всех вещей.
Для лучшего понимания противоречивости этих пунктов «Асклепия», сократим их до четырех (кое-какие друг с другом согласуются, а потому мы их объединим):
I. Вначале были бог и материя.
II. Материя (не-пространство, космос, космическая природа) не рождена и способна рождать вещи из себя.
III. Место (пустое пространство космоса) не рождено и не способно рождать из себя.
IV. Материя – лоно для зачатия всех вещей.
Каждый пункт опровергает предыдущий. Если вначале были только бог и материя, никем не рожденные, но откуда тогда взялось пустое пространство, которое, оказывается, тоже не рождено? Если материя – это саморождающая природа, а место (пустое пространство) – восприемница иной природы (по-видимому, духа), то почему тогда лоном для вещей названа материя, а не место? Ситуация усугубляется присутствием еще двух первоначал – духа и умопостигаемого бога, информация о которых вносит в описанную картину еще больше сумятицы (ведь как мы помним, «в начале были бог и материя»):
«Что же касается духа, то он управляет и приводит в движение все вещи, которые существуют в космосе; он служит как орудие или приспособление, применяемое волей всевышнего бога. <…>
Умопостигаемый бог, которого мы называем всевышний, управляет иным, чувственно воспринимаемым богом, который содержит в себе все места, всю сущность и всю материю того, что рождается и создается <…>. И дух приводит в движение и направляет всех существ, находящихся в космосе, причем каждое сообразно его природе, которую назначил ему бог. Материя же, или космос, есть вместилище всех вещей, которые пребывают в движении, [то есть] то пространство, где они движутся и где они образуют плотную массу. Всем этим правит бог, дарующий каждой из вещей то, что ей необходимо, наполняя ее духом согласно ее сущности».
Плюс вспомним и фразу о духе из первой цитаты, которую я не включил в девять пунктов, чтобы не усложнять и без того запутанный текст:
«Что же касается материи, то есть космической природы, и духа, то, хотя и кажется, что они не рождены чем-либо, все равно они обладают способностью рождаться и рождать и потому владеют плодотворной силой».
Дух не был рожден (хотя вначале были только бог и материя!), пребывал в космосе, не был началом космоса, приводит в движение все вещи по воле умопостигаемого бога. Этот последний – всевышний – управляет чувственно воспринимаемым богом. Чувственно воспринимаемый (в платонизме так называли космос, но ведь выше космосом называлась материя!), в свою очередь, и содержит все вещи и все идеи. Да, не забудем упомянуть, что материя и тут называется пространством и вместилищем.
Указывать на нестыковки в этом всем бессмысленно – текст вопиет о чудовищной путанице всей космогонии «Асклепия». Очевидно, что автор этого трактата был знаком с платонической философией, но усвоил и изложил ее весьма небрежно. Один момент прямо бросается в глаза и даже может служить некоторым объяснением противоречивости всей герметической онтологии – и он имеет прямое отношение к философии. Дело в том, что здесь причудливо слиты два концепта, исторические бывшие друг другу оппозиционными – это платоновская χώρα (пустое пространство, место) и аристотелевская ΰλη (материя).
Нужно отметить, что «Асклепий» дошел до нас только в латинском переводе, хотя оригинал был написан на греческом, а потому мы не знаем, как именно Трисмегист обозначил планотовское χώρα (в латинском переводе дано слово locus – «место»), а вот ΰλη передано без перевода транслитерацией – как hyle. Для нас важно то, что Гермес Трисмегист использовал аристотелевский термин – хотя общая схема рождения мира у него платоновская, а потому в ней присутствует и χώρα. Понятия задвоились – получилось что-то вроде «сыра пошехонского дорблю» или «лазерного струйного принтера».
Давайте посмотрим, в чем разница между хюле-материей и хорой-местом (здесь и далее буду писать эти термины кириллицей). В институтском общем курсе философии нередко говорится о том, что именно Платон ввел в оборот понятие материи. Это не совсем так: Платон ввел понятие «хоры», а Аристотель отверг его и предложил заместо «хоры» свое «хюле». Впоследствии «хюле» было переведено Цицероном на латынь как materia. Видимо, из-за большего благозвучия исторически закрепился именно латинский вариант. Перевод Цицерона был точен – и «хюле», и «материя» означают одно и то же – древесину. Так Аристотель обозначил строительный материал, из которого делаются все вещи в космосе (разумеется, имелась ввиду не реальная древесина – это лишь иносказание). Можно сказать, что Платон вдохновил Аристотеля, но содержание понятия «хюле» все же отличалось от «хоры».
Что же такое «хора»? В диалоге «Тимей» Платон делает важнейшее умозаключение о трех родах сущего. Все мы знаем о том, что он делил все сущее на вещи и идеи – это плюс-минус верно: да, действительно, у каждой реальной вещи имеется вечный и нерушимый первообраз. Людей много, а идея человека во всех одна и та же – и постигается нами не ощущениями, а умозаключением. Но вот вопрос: а как вечные неподвижные неразрушимые идеи становятся меняющимися движущимися разрушающимися вещами? Пусть идея человека вечна, но всякий человек-то временен – он рождается, меняется и исчезает. Так как происходит переход идей из неподвижного вечного бытия в становящийся мир вещей?
Платон вынужден пойти на нетривиальный шаг: допустить существование чего-то третьего, не являющегося ни идеей, ни вещью, но служащего условием трансформации одного в другое. Наш мир, мир рождения и уничтожения вещей, чисто логически занимает промежуточное место между бытием (ведь вещи в нем есть) и небытием (ведь вещи в нем исчезают, становятся ничем). Значит, помимо бытия должно существовать и ничто, небытие – природа, которая не является ничем определенным, но позволяет существовать вещам. Именно из союза бытия и ничто рождаются вещи, которые то получают бытие, то теряют его. Такое ничто Платон называет «хорой» – словом, обозначающем по-гречески место, пространство (у «хоры» много значений, но их разбор выходит за рамки этого рассмотрения):
«Приходится признать, во-первых, что есть тождественная идея, нерожденная и негибнущая <…>, незримая и никак иначе не ощущаемая, но отданная на попечение мысли. Во-вторых, есть нечто подобное этой идее и носящее то же имя – ощутимое, рожденное, вечно движущееся, возникающее в некоем месте и вновь из него исчезающее, и оно воспринимается посредством мнения, соединенного с ощущением. В-третьих, есть еще один род, а именно пространство: оно вечно, не приемлет разрушения, дарует обитель всему рождающемуся, но само воспринимается вне ощущения, посредством некоего незаконного умозаключения, и поверить в него почти невозможно».
Иными словами, вещи существуют где-то – они занимают место. По Платону, если изъять из космоса все вещи, останется пустое пространство (наполненное лишь первоэлементами – земли, воды, воздуха и огня) – хора. Это пространство – ничто, оно не имеет никакой идеи, но лишь воспринимает в себя вечные идеи (Платон называет хору «восприемницей и как бы кормилицей всякого рождения»). Попав в наполненную первоэлементами пустоту, идеи обретают «плоть» – они становятся вещами. Но поскольку они рождены в ничто, то неизбежно разрушимы – отсюда недолговечность вещей в сравнении со своими прообразами-идеями. Хора – это утроба для идей, рождающая из них вещи. Данная аналогия проводится и самим Платоном:
«Нам следует мысленно обособить три рода: то, что рождается, то, внутри чего совершается рождение, и то, по образцу чего возрастает рождающееся. Воспринимающее начало можно уподобить матери, образец – отцу, а промежуточную природу – ребенку».
В общем, все объекты в нашем мире (в том числе и мы сами) – дети бытия (эйдосов) и небытия (хоры), а потому то рождаются (получают бытие), то исчезают (переходят в небытие). Коитальная метафора крайне удачна, потому что мужской принцип, эйдос, активен, тогда как хора пассивна: она – лоно, принимающее в себя эйдосы. Ну или – если приводить другие, более пуританские аналогии – хора походит на восковую дощечку, принимающую любую форму, или на зеркало, все отражающее, но не являющееся ничем из отражаемого.
Аристотель безусловно принял саму дихотомию идеи (образца, по которому создана любая вещь) и того, из чего эта вещь создана. Но. Он категорически отверг представление Платона о том, что вещи делаются посредством пространства. Да, вещи существуют в пространстве, но отсюда никак не следуют, что они происходят из него. Например, вино существует в пространстве, но разве можно сказать, что оно делается из него? – нет, вино делается из винограда, а потому причиной вина, виноматериалом будет именно виноград. Материал любой вещи – это и есть ее хюле, материя. Потому хюле – это не хора.
Аристотель упоминает и первую материю – ту, из которой изначально появились вещи, затем ставшие материей более сложных объектов (например, виноград – материя вина, но и сам виноград имеет свою материю – сам он тоже из чего-то состоит), но даже первая материя – не хора. Для Платона хора – это пространство, в котором бурлят неотделимые от нее первоэлементы (как море неотделимо от воды, так же и хора – от четырех стихий), а для Аристотеля, во-первых, и элементы не являются первой материей (они сами происходят из нее), а во-вторых, и пространство (оно же место) ею не является («так как из него ничто не состоит» [АИ 120]). Хюле есть чистая возможность возникновения вещей, лишенная каких-либо свойств, тогда как хора (по Аристотелю) не способна стать ничем (ведь вещи, как мы уже не раз говорили, не состоят из пространства, а лишь помещаются в нем).
Вернемся, наконец, к нашим герметикам. В «Асклепии» две концепции изначального субстрата – хюле и хоры – не просто соединены (это ладно – Аристотель также признавал и пространство, и материю), а спутаны. То они отличают материю от места (как Аристотель), а то именно материю объявляют «лоном для зачатия» и «вместилищем всех вещей» (как Платон свою хору), то вообще пускаются во всех тяжкие, говоря, что материя «способна рождать без постороннего вмешательства» (то есть не нуждается в эйдосах – это уже похоже на Гераклита и даже на милетских физикалистов, не деливших мир на активное и пассивное начала). На соседних страницах у Трисмегиста мы видим 1) материю, от которой мы «должны отличать <…> место» и 2) материю, которая есть «космос, есть вместилище всех вещей, которые пребывают в движении, то пространство, где они движутся».
Тут я усомнился в себе и подумал, что, возможно, Гермес Трисмегист различал пространство и место (которое есть лишь часть пространства – мест ведь много) – потому, мол, материя и отлична от места, и является пространством. Но нет, он пишет: «При этом местом я называю то, что содержит в себе все вещи, потому что они не могут существовать без объемлющего их». В общем, как ни крути, понять этот герметический текст невозможно – а если мы добавим противоречия, касающиеся вопросов духа, то впору будет писать еще несколько нечитабельных страниц.
Но читатель может спросить, в чем, собственно, состоит интерес автора к этой теме. Ну, допустим, какие-то провинциальные сектанты напутали понятия – они ж не философы, какой с них спрос? Возможно, так и есть, но для меня здесь важно три момента. Во-первых, герметизм мне в целом вполне симпатичен. Нет, не в том смысле, что я готов уверовать в их доктрину. Просто среди всех эллинистических религий герметическая кажется мне наиболее мягкой и возвышенной. Возможно, она стала таковой именно благодаря знакомству (пусть и недостаточно глубокому) с платоновской философией: Платон способен смягчить сердце любому фанатику – потому что его тексты очищают душу. Даже дуалистические, почти гностические моменты в герметизме не вызывают отторжения (тем более, что они касаются только части текстов, тогда как в другой взгляд на мир вполне себе благодушный). Понятно, что любая религия под воздействием внешних обстоятельств способна переродиться в худшую сторону, но чисто «на бумаге» творения Гермеса Трисмегиста (точнее, группы авторов, подписывавшихся эти именем) выглядят очень мило. Думаю, если бы в религиозной олимпиаде начала нашей эры победил герметизм, последние пару тысяч лет могли пройти более гладко.
Во-вторых, когда бы мне еще довелось написать о хоре и хюле? На изучение хоры я потратил не один день жизни: соответствующее исследование (филологическое – я проштудировал и проанализировал все упоминания этого слова в корпусе Платона) еще ждет публикации. Потому, когда я наткнулся на путаницу в «Асклепии», дремлющий где-то глубоко внутри меня скучный метафизик вылез на поверхность.
В-третьих, герметизм принадлежит самому интересном для меня периоду истории – первым векам новой эры. Эта была точка бифуркации – полагаю, буквально два-три сравнительно ничтожных события могли существенно повлиять судьбу тысячелетий. Подумать, что могло бы быть иначе, если бы они случились (или не случились) – вот что заставило меня взяться за анализ герметической теологии.