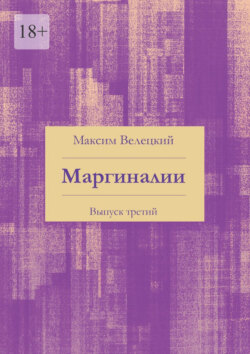Читать книгу Маргиналии. Выпуск третий - Максим Велецкий - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
111. К Архилоху
Оглавление«Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой.
Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!
Пусть везде кругом засады, – твердо стой, не трепещи.
Победишь, – своей победы напоказ не выставляй,
Победят, – не огорчайся, запершись в дому, не плачь.
В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй.
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт».
Эти строки я выбрал в качестве эпиграфа к прочитанному зимой 2023 года курсу лекций по античной этике [АИ 111]. Тогда я сказал, что в них «античный дух – дух разумного, спокойного, ровного отношения к жизни – явлен с удивительной силой».
До этого в «2. К Феогниду» я уже писал о греческом пессимистическом отношении к миру и парадоксе того, что именно оно заставило величайший народ древности искать счастья – земного счастья – в искусстве, науке и философии. Феогнид тогда казался мне лучшим выражением античного мировоззрения. Однако, в его поэзии этот самый пессимизм все же зашкаливает. В частности, предельно суровы оценки человечества как вида – вот типичное:
«Ныне несчастия добрых становятся благом для низких
Граждан; законы теперь странные всюду царят;
Совести в душах людей не ищи; лишь бесстыдство и наглость,
Правду победно поправ, всею владеют землей».
Конечно, это вполне распространенный в Античности взгляд на мир. Но что отличает Феогнида по сравнению с его старшим коллегой Архилохом (их разделяет более сотни лет), так это отсутствие иронии и самоиронии – черт, без которых трудно терпеть то, что «нет правды на земле, но правды нет и выше». У Архилоха ничуть не больше оптимизма и не меньше удивления от того, насколько странно устроена наша жиза, но в нем больше легкости и веселости – качеств, помогающих переносить бремя существования.
В стихах Архилоха мы не найдем развернутых назиданий – в этом аспекте Феогнид, безусловно, качественно превосходит предшественника. Но зато – по тем немногим фрагментам, что остались от седой древности – личность Архилоха представляется мне более живой, глубокой и сложной. Он дальше от античной моральной философии, но «ближе к народу». И потому, как мне кажется, он еще лучше выражает античное миропонимание – то, которое впоследствии прошло у философов через рационализацию и тем самым подрастеряло ту самую веселость. Я отнюдь не являюсь поклонником «народности» любого рода – но Грецию VII века (эпохи научной революции и колонизации, дофилософскую Грецию), мне прочувствовать интересно – потому мне интересен и рассматриваемый автор. Я не поставлю легкий цинизм и оппортунизм Архилоха выше морализма Феогнида (а уж тем более, выше этических философских систем), но как человек, как тип, как характер самосский поэт привлекает своей амбивалентностью.
Что касается вынесенных в начало строк, отношение к стойкости у двух авторов мало отличается. Вот у Феогнида читаем строки с практически тем же месседжем (быть может, он даже взял идею у нашего героя):
«Кирн, будь стоек в беде. Ведь знал же ты лучшее время.
Было ведь так, что судьба счастье бросала тебе.
Что ж, коль удача – увы! – обернулась бедой, не робея,
Силься, молитву творя, всплыть на поверхность опять.
Слишком с бедой не носись. Немногих заступников сыщешь,
Если несчастья свои выставишь всем напоказ».
Но за пределами этой темы различия очень существенны. Феогнид – поэт-моралист, почти полностью сосредоточенный на описании ничтожности своей современности, несправедливости мироустройства и безучастности богов. По большому счету, он поэт одной темы.
Архилох же – поэт-экзистенциалист. Палитра его умонастроений гораздо богаче. То он выступает как пессимист и скептик, то как чуткий утешитель, то как благочестивый дифирамбист, то как трагикомический герой, то как эпатажный трикстер. Сын аристократа и рабыни, он не мог претендовать на высокий общественный статус, а потому вынужден был зарабатывать на жизнь военным делом. Поэтому в его стихах видна психология солдата удачи, то есть человека, не питающего надежд и не впадающего в иллюзии. Семья, достаток, почет – на все это Архилоху рассчитывать не приходилось. Его лирический герой – это всегда одиночка, не лишенный чести и благородства, но и не мнящий себя новым Гераклом, то есть не мечтающий даже о посмертной славе – той самой ценности, что ранее сподвигала гомеровских героев отказываться от всех благ мирной жизни (в том числе власти). В отличии от них Архилох не верит в «добрую память» о себе (слава богу, здесь он ошибся – мы читаем его до сих пор):
«Кто падет, тому ни славы, ни почета больше нет
От сограждан. Благодарность мы питаем лишь к живым, —
Мы, живые. Доля павших, – хуже доли не найти».
Непрочность существования и скромность перспектив автора имели, впрочем, положительное влияние на качество его поэзии. Во-первых, Архилох с нами более чем откровенен: он не пытается выглядеть лучше, чем есть – отсюда и та самая широкая палитра. Во-вторых, его мир – это хаос, но не полуинфернальный Хаос Гесиода: скорее он похож на комичный, абсурдный, нелепый мир гашековской Австро-Венгрии. Тема хаоса хорошо раскрыта в стихах, навеянных солнечным затмением:
«Можно ждать чего угодно, можно веровать всему,
Ничему нельзя дивиться, раз уж Зевс, отец богов,
В полдень ночь послал на землю, заградивши свет лучей
У сияющего солнца. Жалкий страх на всех напал.
Всё должны отныне люди вероятным признавать
И возможным. Удивляться вам не нужно и тогда,
Если даже зверь с дельфином поменяются жильем <…>».
Осмелюсь предположить: затмение затмением, но для Архилоха оно было лишь поводом для декларации своего взгляда на природу сущего. Столь же скептично-ироничен он и в отношении людей – но его позиция (в отличии от феогнидовской) чужда идее порочности человека. Для Архилоха человек – существо (прежде всего) непостоянное и неустойчивое:
«Настроения у смертных, <…>
Таковы, какие в душу в этот день вселит им Зевс.
И, как сложатся условья, таковы и мысли их».
Увы, у нас нет других свидетельств его антропологических взглядов, но если принять озвученные за целое, то можно сказать следующее: если для Феогнида люди злонамеренно дурны, то для Архилоха – невольно глупы. Эта тема перекликается с ранее обозначенной – о ненадежности существования и бессмысленности «долгосрочного планирования»:
«Часто копишь, копишь деньги, – копишь долго и с трудом,
Да в живот продажной девке вдруг и спустишь все дотла».
Конечно, можно увидеть в предыдущих стихах (насчет «настроений у смертных») отрицание свободы воли и идею того, что люди суть игрушки в руках богов («вселит им Зевс») – но мне кажется, что не стоит «теологизировать» его позицию, ведь в третьей строке говорится «как сложатся условья». Могу ошибаться, но «вселит им Зевс» в данном контексте имеет ту же коннотацию, что и русское «как бог на душу положит» или «бес попутал» – высказывания, согласимся, не имеют отношения к богу и бесу. Вот и «вселит им Зевс» – иносказание для «само собой вышло», «так получилось», «так совпало».
Тем не менее, Архилох далек от эпикурейского взгляда на природу богов как на безразличных и удаленных от мира блаженных существ. От него до нас дошло по паре строчек об Аполлоне, Деметре-Персефоне, Гефесте и Геракле – плюс самый ранний из нам известных дифирамбов Дионису:
«И владыке Дионису дифирамб умею я
Затянуть прекраснозвучный, дух вином воспламенив».
Последнее обстоятельство сподвигло Ницше в «Рождении трагедии» объявить Архилоха и Гомера «праотцами и факельщиками греческой поэзии». Гомер представлялся ему воплощением аполлонического начала, а Архилох – дионисийского. Ницше даже написал, что в любовной лирике последнего «мы видим Диониса и его менад, мы видим опьяненного мечтателя-безумца Архилоха, простертого на земле и погруженного в сон». Я, грешный, ничего подобного не вижу, но очевидно, что наш автор не был чужд искреннему благочестию – отсюда его строки о Зевсе:
«О Зевс, отец мой! Ты на небесах царишь,
Свидетель ты всех дел людских,
И злых и правых. Для тебя не все равно,
По правде ль зверь живет иль нет».
Крайне важен и другой отрывок, которому нам следует уделить особое внимание:
«В каждом деле полагайся на богов. Не раз людей,
На земле лежащих черной, ставят на ноги они.
Так же часто и стоящих очень крепко на ногах
Опрокидывают навзничь, и тогда идет беда».
Заметим, что Архилох не предлагает нам никаких интерпретаций – чем, мол, руководствуются боги – поднимающие и опрокидывающие. Он только приводит факты капризности фортуны: одни чудом выживают, другие внезапно все теряют. Мы можем спросить – так почему же стоит «полагаться на богов»? Какой смысл полагаться на них, если неизвестно, чего от них ждать? С большой долей вероятности, слова Архилоха адресованы не нашему благочестию, а нашей стойкости. Это призыв не отчаиваться – даже если положение кажется безнадежным, вероятность чуда, случая (с большой и маленькой букв) никто не отменял. То есть эти строки перекликаются с уже известными нам «в меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй». А также иными:
«Но и от зол неизбывных богами нам послано средство:
Стойкость могучая, друг, вот этот божеский дар.
То одного, то другого судьба поражает: сегодня
С нами несчастье, и мы стонем в кровавой беде,
Завтра в другого ударит. По-женски не падайте духом,
Бодро, как можно скорей, перетерпите беду».
В общем, если и можно говорить о религиозном мировоззрении Архилоха, то, как мне представляется, оно сфокусировано не вокруг Зевса или Диониса (как то видел Ницше), а вокруг богинь Мойры (Судьбы) и Тюхе (Случая) – об этом свидетельствует фрагмент, традиционно приписывавшийся Архилоху – «Все человеку <…> судьба посылает и случай». Впрочем, не факт, что поэтом τύχη καὶ μοῖρα воспринимались в качестве персонифицированных божеств, но при любом раскладе объектом веры Архилоха – солдата удачи без надежды на долгую жизнь и обеспеченную старость – должна была быть именно удача. Чтобы почувствовать, насколько такая вера могла быть сугубо личной и «внеконфессиональной», можно вспомнить современных предпринимателей, спортсменов или картежников: они тоже жаждут везения, фарта, «прухи» и стихийно им молятся, хотя при этом на рациональном уровне могут быть как атеистами, так и адептами религий, в которых нет места подобным «божествам». Проще говоря, сегодняшний человек, для которого удача есть вопрос жизни и смерти, даже если он христианин, может веровать в эту безличную удачу куда более истово, чем в Троицу, Богородицу или Николая Угодника. Вот и интимными божествами Архилоха, на мой взгляд, были τύχη καὶ μοῖρα.
Отсюда же и тема самоконтроля. Знание о том, что судьба переменчива, мир хаотичен, а люди глупы, заставляет поэта напоминать себе и другим об умеренности и стойкости – качествах, благодаря которым внешний беспорядок компенсируется внутренней упорядоченностью. Добавьте к этому веселость – и получите рецепт выживания и жизнелюбия по-архилоховски.
Поскольку у нас не работа об Архилохе, а вольные заметки на полях его стихов, эту самую веселость мы обойдем стороной. Равно как и его трикстерство – в частности, беззастенчивое признание в бегстве с поля боя, кое возбуждало к нему ненависть на протяжении долгих веков. Для меня в Архилохе притягательно все: широта и глубина его натуры, способность совмещать в себе противоположные качества, холодно-ироничное отношение к миру, а также невозможная для предшествовавших веков (с их фиксацией на славе и чести) внутренняя свобода (в том числе свобода показывать себя миру с неприглядной стороны). Показательно, что некоторые мотивы его лирики находили продолжение не только у жившего вскоре после него Феогнида, но и спустя более чем тысячу лет – так, у Паллада (IV—V нашей эры), одного из последних носителей языческой культуры и свидетеле физического ее уничтожения, читаем:
«Всем суждено умереть. И никто предсказать не сумеет,
Даже на завтрашний день, будет ли жив человек.
Ясно все это познав, человек, веселись беззаботно,
Бромия крепко держа – смерти забвенье – в руках;
И наслаждайся любовью при жизни своей однодневной,
Все остальное отдав на попеченье Судьбы».
Ну чем не Архилох? Он самый, только немного усиленный эпикурейцами. Так что наш герой не только сформировал широту античной души, но и пережил античное «тело»: когда оно было уже мертво (точнее, убито и подвергнуто надругательствам), последние люди погибшего мира продолжали мыслить и чувствовать в его стиле. В одном он точно не был прав – в том, что «кто падет, тому ни славы, ни почета больше нет от сограждан»: даже в архаичные времена он был объектом религиозного почитания: на острове Парос, его родине, те самые сограждане благочестиво чтили его как героя. Да и сейчас Архилох находит живой отклик – во мне, по крайней мере, уж точно.