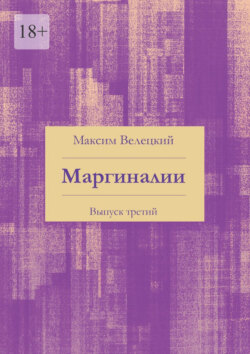Читать книгу Маргиналии. Выпуск третий - Максим Велецкий - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
121. К Ямвлиху
ОглавлениеНеоплатоник Ямвлих Халкидский в сочинении, обычно именуемом «О египетских мистериях», пишет, что наличие множества богов никак не отменяет единство сущего:
«[Нужно] рассмотреть, как осуществляется распределение божественных уделов. Оказывается, в чем бы такой удел ни состоял, будь то часть целого, как небо и земля, будь то священный город или область, святилище или священная статуя, – все это озаряется снаружи божественным светом, как и солнце освещает все своими лучами. <…> Божественный свет все освещает без смешения и, имея незыблемое основание в богах, пронизывает все сущее. Ведь и видимый свет един и сплошен, он повсюду целостен <…>. Точно так же и весь космос, будучи разделенным на части, дробится относительно единого и неделимого божественного света. <…> Космос заставляет сопрягаться концы с началами <…> [и достигает] единой целостности и согласия всего и во всем.
Так не стыдно ли, видя эту сверкающую божественную статую [т.е. космос – М. В.], иметь о богах, ее создавших, несуразное мнение, полагать в них наличие каких-то разрывов, дроблений и телесных ограничений?».
Итак, боги разнообразны по своим родам и функциям, но это разнообразие производно от изначального единства, которое и скрепляет различные космические (да и божественные) области («порядок [богов] состоит в единстве, <…> и все охвачено общностью взаимной неразрывной связи»). Особенно интересен аргумент Ямвлиха в пользу единства. Он говорит, что без единства управляемый богами космос стал бы буквально ничем:
«Если между правящим и управляемым нет никакого соответствия, никакого отношения соразмерности, никакой общности в сущности, никакой сопряженности в потенции и энергии, то это управляемое является, так сказать, ничем, покоящимся в управляющем».
Хм. Да вот как бы наоборот: космос как раз не является «ничем». Без «общности в сущности» ничем становится лишь изначальное единство. Потому что единственным несущим (не в смысле «не обладающим существованием», а в смысле такого, который несет) элементом конструкции единства является то, что никак не дано нам в ощущениях – а именно вечное и трансцендентное единое. И проблема любой монистической философии в том, что эта самая конструкция не доказывается, а лишь постулируется – притом постулируется апостериорно.
Иными словами, вот есть конкретный человек со своим отдельным сознанием и телесными границами. Еще в детстве он осознает эту отдельность. И только потом, в результате пассивного усвоения или активного постижения различных теологических доктрин, приходит к идее единства сущего. То есть осознание этого самого единства всегда происходит после осознания своей отдельности. Следовательно, единство, признаваемое в монистических доктринах началом бытия, для каждого их адепта является результатом мышления. Таким образом, сильные утверждения вроде «все мы части единого сущего, произошедшего из единого божественного истока» по факту являются урезанной версией следующего утверждения: «я, имярек, в конечном итоге понял, что между мной и миром нет непреодолимой границы – потому что все мы части единого сущего…». Но если произнести эту фразу вслух, она автоматически потеряет всю свою логическую убедительность и нравственный пафос.
Итого: мы (если мы приверженцы монизма) всегда идем от эмпирической множественности существующего к его умозрительному (то есть лишь гипотетическому) единству. Именно так, а не наоборот. Потому что множественность объектов (физических, математических, логических, каких угодно еще вплоть до чисто субъективных и фантазийных) – это данность, это факт. А вот сущностное единство всех этих данностей – это не факт, но лишь интерпретация факта. Следует ли нам отличать факты от интерпретаций фактов? Да, следует – чтобы не путать субъективное мнение о сущем с самим сущим.
Означает ли вышесказанное, что все существующее не обладает сущностным единством? Нет, не означает – но признание факта многообразия при создании любой философской доктрины в любом случае должно быть отправной ее точкой. Как вписать многообразие форм сущего в единый нарратив – это уже вопрос к создателям этих доктрин, но, если история философии нас чему-то и может научить, так это тому, что игнорирование факта многообразия через конструирование легковесных теологических конструкций – это худший способ объяснения сущности мироздания.
Неоплатонизм представлял собой как раз такую – легковесную – конструкцию, в которой «божественный свет все освещает без смешения и, имея незыблемое основание в богах, пронизывает все сущее». Никто из живущих не видел этого света – разве что чувствовал. Но чувства, даже самые возвышенные, – ненадежные друзья познанию. И так как это божественное и излучаемый им свет не даны нам непосредственно, они всегда является той самой апостериорной надстройкой над чувственным миром. По большому счету, с помощью этой надстройки под многообразие нашим разумом подводится некий общий знаменатель, должный оное многообразие объяснить. Без такого умозрительного дополнения различные формы существования не складываются воедино. Ну как без теологического костыля объединить хотя бы две реально существующие, но предельно разнородные области сущего – физическую и математическую? Физический мир объективен – и математический тоже. Что их может связать как не нечто третье, объявляющееся их истоком и пронизывающее их своим светом?.. Вот только существование этого третьего – это, опять же, интерпретация, а не факт.
Именно на воздержании от такой интерпретации я и сформулировал философию дискретности (раздельности разных типов существования объектов), которой в 2023 году посвятил пять публичных лекций [АИ 121]. Я не готов присягнуть, что мир сущностно не един – такое умозаключение было бы столь же догматическим, как и обратное (например, ямвлиховское). Я лишь утверждаю, что мы не можем предписывать единство там, где чисто эмпирически наблюдаем многообразие – как бы того не хотелось нашему разуму (неотъемлемым свойством которого является стремление к системности). Не добавлять новые уровни существования, не надстраивать их над уже имеющимися – это первый шаг к спокойному, скептическому исследованию реальности. Но также важно не впадать и в обратную крайность – не убавлять эти уровни: например, не отрицать ни объективность математики и логики, ни свободу человеческого духа – как то делали радикальные материалисты прошлых веков. Если монисты-идеалисты чрезмерно усложняют реальность, то монисты-материалисты, наоборот, предельно ее обедняют. Потому, собственно, я и попытался отказаться от монистической установки обоих толков – как от сужающих поле зрения шор.
Но может возникнуть закономерный вопрос: если все эти области не составляют единства и если мир и в самом деле сущностно (а не только фактически) дискретен, что остается нам – где нам обрести целостность существования? Ответ на этот вопрос уже выходит за рамки онтологии и гносеологии – потому в сути является этическим. Однако было бы нечестно от него уклоняться. Мой ответ прост: жить как жили и стараться сделать этот мир лучше – и неважно, какой этот мир по своей природе – пронизанный божественным светом или расщепленный на разные области. Делать его лучше нам не может помешать ни наличие трансцендентного истока, ни его отсутствие.