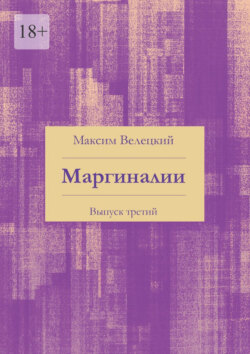Читать книгу Маргиналии. Выпуск третий - Максим Велецкий - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
115. К Керкиду
Оглавление«[Почему богиня судьбы Тиха (или Зевс)] не превратила
Этот денежный мешок, обжору и развратника Ксенона в сына
Нищеты и не послала нам, беднякам, на жизнь те груды
Золота, которые он снова и снова пускает на ветер? <…>
Почему же она не отберёт у грязного мошенника и ростовщика,
Готового задушиться за грош, или у
Расточителя, не устающего проматывать своё состояние,
У этого губителя денег, их свинского богатства
И не даст хотя бы самых ничтожных средств на
Существование бедняку, который питается лишь самым
Необходимым и не имеет даже своей собственной посуды».
Я выбрал в качестве героя этой маргиналии Керкида Мегалопольского, хотя можно было бы взять почти любого другого кинического философа. Перечитывая «Антологию кинизма» [АИ 115], в которой собрана доксография десятков философов из сотен источников, осознал, что вопреки всему этому разнообразию я все время читаю об одном и том же – об оппозиции богатства и бедности. Нельзя сказать, что все киники одинаково мыслили на этот счет – разброс мнений был широк. Но ни одной теме они не уделяли столько внимания, сколько вопросу отношения к деньгам (даже о добродетели они часто говорили в этом контексте). Предлагаю взглянуть на некоторые мнения – а потом я скажу, что меня удивляет в этом киническом заострении на материальном.
В «Пире» у Ксенофонта основатель кинизма Антисфен (446—366) говорит, что богатство и бедность сами по себе не имеют значения – важно, что в душе:
«По моему убеждению, друзья, у людей богатство и бедность не в хозяйстве, а в душе. Я вижу много частных лиц, которые, владея очень большим капиталом, считают себя такими бедными, что берутся за всякую работу, идут на всякую опасность, только бы добыть побольше».
Далее, ясно дело, идет рассказ о том, сколько зла бывает от денег – и сколь легко избежать этого, довольствуясь малым:
«Самым драгоценным благом в моём [духовном – М. В.] богатстве я считаю вот что: если бы отняли у меня и то, что теперь есть, ни одно занятие, как я вижу, не оказалось бы настолько плохим, чтобы не могло доставлять мне пропитание в достаточном количестве».
Того же мнения был и Телет Мегарский (III век до н.э.):
«Что плохого и обременительного в бедности? Разве Кратет и Диоген не были бедняками? Разве бедность была им тяжкой, когда они избавились от тщеславия и научились питаться дешёвой пищей и просить подаяния? Тебя постигла беда, и ты кругом в долгах. „Бобы собирай и моллюсков…“ – советует Кратет. Поступай так и легко одержишь победу над бедностью. Почему, скажи мне, нужно больше ценить того, кто спокойно проводит старость в бедности, чем богатого старика? Ведь не так легко узнать, что собственно такое богатство и бедность. Много стариков достаточно богаты, а всё недовольны. Есть, впрочем, и бедняки недостойные, жалкие и ничтожные».
Здесь мы видим вполне философское отношение к финансам – под ним могли бы подписаться и эпикурейцы, и стоики, и даже, наверно, перипатетики. Но была и другая группа мнений – например, у процитированного в начале Керкида мы видим возмущение имущественным неравенством (да еще и с призывом к божествам «исправить» это неравенство). Современник Керкида, другой киник III века, Феникс Колофонский писал ровно о том же:
«Те, кто, как говорится, гроша ломаного не стоит,
Купаются в богатстве. Но на что нужно тратить свои богатства,
А это самое главное, они не знают [,] <…>
Всему предпочитая самое ничтожное в жизни —
Презренную выгоду и богатство».
Особенно замечательны слова Монима Сиракузского: «богатство – это блевотина судьбы».
Вопрос: если (в мягком варианте, представленном Антисфеном и Телетом) богатство и бедность не имеют прямого отношения к добродетели и счастью или (в жестком варианте, представленном Керкидом, Фениксом и Монимом) богатство презренно и ничтожно, то… зачем уделять ему столько внимания? «Богатство не имеет значения, не имеет значения, не имеет значения, не имеет значения, не имеет значения» – вот прям настолько не имеет, что невозможно о нем не говорить? А бедность столь прекрасна, что нужно ее рьяно защищать?
Ну представьте себе человека, библиотека которого состоит из десятка книг, который не любит читать, считая это занятие бесполезным. Имеет право, что уж тут. Но вот он приходит в дом, заставленный книжными стеллажами – и не пожимает плечами, не крутит пальцем у виска, а возмущенно обличает книгочея за то, что тот «предпочитает самое ничтожное в жизни». А потом во всеуслышание ропщет на богов а-ля Керкид (для наглядности заменим слова из начальной цитаты):
Почему богиня судьбы Тиха (или Зевс) не превратила
Этот книжный шкаф, книгожора и буквоеда Ксенона в сына
Невежества и не послала нам, неучам, на жизнь те груды
Книг, которые он снова и снова берет в руки?
Или человек активно пропагандирует идеологию чайлдфри – «мне дети не нужны, от них один геморрой и никакого толку». Ладно, дело личное. Но при этом в каждом разговоре он обличает многодетных родителей а-ля Феникс:
Те, кто, как говорится, сами как дети,
Окружены потомками. Но на что нужно тратить свое время,
А это самое главное, они не знают,
Всему предпочитая самое ничтожное в жизни —
Презренное деторождение и чадолюбие.
Получается как в старой шутке из отечественного фильма «три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны». Вот также и у киников с деньгами.
Интересное этическое учение этот кинизм. У большинства авторов главной темой является не добродетель, счастье или общее благо, а чисто материальные вопросы. Более того, поскольку большинство философов этого течения жили попрошайничеством (чем гордились), особенное место у них занимала тема еды. Если описывать киническую философию еды одним предложением, получится следующее: «Обжорство ужасно, еда должна быть простой, мы свободны от рабства желудка, дайте поесть». И это притом, что главная идея кинизма – это как раз самодостаточность (αὐτάρκεια) и освобождение от материального. У Лукиана Самосатского (120—180) в диалоге «Киник» читаем:
«Я же молю богов, чтобы ноги мои ничуть не отличались от конских копыт, как, по преданию, ноги кентавра Хирона, чтобы самому мне, подобно львам, не нуждаться в постели и чтобы роскошная пища была мне потребна не больше, нежели псам. Да будет дано мне <…> пищу брать ту, какую добыть всего легче. В золоте же и серебре пусть никогда не почувствуем надобности ни я сам, ни мои друзья».
Обратим внимание: он молит об этом – «да будет мне дано», «пусть никогда». Идея о том, что можно не насиловать себя, и время, посвященное добыванию прокорма и молитвам о нем, потратить на ту же философию, философам-киникам в голову не приходила. Проводя аналогию с половым воздержанием, вспоминается разумные слова апостола Павла: «Если уж никаким образом не могут удержаться, пускай тогда женятся, потому что лучше жениться, чем разжигаться похотью». Также и тут – если уж не можете не есть, но нечего бедствовать и кичиться самодостаточностью – мыслями вы все равно будете в пищеблоке. Молитесь о чем-нибудь более достойном.
Это двоемыслие киников уже на излете Античности замечательно высмеял Паллад:
«Мудрость какая на деле у киника (с палкою был он
И бородой) показал нам превосходно обед.
Киник, усевшись за стол, от редьки, бобов воздержался,
Ибо, как он пояснил, доблесть – не раб живота.
Стоило только ему белоснежную матку увидеть,
Мигом был ею смущен хмурый кинический ум.
Так, вопреки ожиданью, он просит ее и съедает,
И говорит, что она доблести не повредит».
Попрекать голодного – дело нехорошее, но не в этом случае: киники бродяжничали и бездельничали добровольно – да еще и понтовались этим. Но это были именно понты – на деле они так и не смогли достичь безразличного отношения к богатству и изобилию. Потому, как у Паллада, легко впадали в искушение. Фразочки вроде «богатство – блевотина судьбы» выдают ресентимент, а вовсе не невозмутимость. А вот стоики – чуть более мягкая версия кинизма (имеющая с ним прямую преемственность – первый стоик Зенон Китийский был учеником киника Кратета Фиванского) – куда лучше справлялись с задачей достижения безразличия – у них мы не находим столь сильной фиксации на обличении «сребролюбия» и «чревоугодия». И позерства у стоиков было меньше. Потому последние и стали создателями одной из самых сильных этических систем в мировой истории, а предшествовавшие им киники сошли с исторической сцены – оттого, что большую часть времени тратили на любование собственным нонконформизмом, сублимацию зависти в доблесть, попрошайство и юродство.
А с другой стороны, в любом обществе всегда имеются маргинальные элементы – идейные бездельники и бродяги. Обычно они морально разлагаются и занимаются мелким криминалом. А вот в Античности они пытались подражать богам и героям (отсюда кинический культ Геракла и отсюда же фраза Диогена «боги ни в чём не нуждаются, а богоподобные люди нуждаются в малом»), рассуждали о добродетели и на равных общались с философами и политиками из высших слоев. Такой была Античность – там даже у бездомных безработных городских сумасшедших была своя философия. Поэт I века н. э. Лукиллий писал:
«Всякий безграмотный нищий теперь уж не станет, как прежде,
Грузы носить на спине или молоть за гроши,
Но отрастит бороденку и, палку подняв на дороге,
Первым объявит себя по добродетели псом».
Да, работать этот обобщенный нищий не начинал, но зато и не пырял никого ножом – он подражал Гераклу, Гераклиту и Сократу, спорил с Платоном, игнорил Македонского и вызывал восхищение целых римских императоров – в частности, Марка Аврелия и Юлиана Отступника.