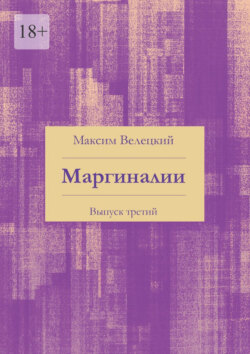Читать книгу Маргиналии. Выпуск третий - Максим Велецкий - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
117. К Марку Аврелию
Оглавление«Относительно мясных блюд и вообще подобных кушаний можно приучить себя к такому взгляду [АИ 117]: что это рыбий труп, а то – труп птицы или свиньи; а что Фалернское [вино], опять же, виноградная жижа, а тога, окаймленная пурпуром, – овечьи волосья, вымазанные в крови ракушки; при совокуплении – трение внутренностей и выделение слизи с каким-то содроганием. Вот каковы представления, когда они метят прямо в вещи и проходят их насквозь, чтобы усматривалось, что они такое, – так надо делать и в отношении жизни в целом, и там, где вещи представляются такими уж преубедительными, обнажать и разглядывать их невзрачность и устранять предания, в какие они рядятся. Ибо страшно это нелепое ослепление, и как раз когда кажется тебе, что ты чем-то особенно важным занят, тут-то и оказываешься под сильнейшим обаянием».
Возможно, этот метод Аврелия – самый лучший и самый простой из доступных каждому философствующему (как профессиональному философу, так и всякому, кто интересуется «как все устроено»). Речь ведь не только о том, так ли прекрасны окружающие нас вещи, но и о том, а существуют ли они вообще. Ценности, убеждения, идеалы, воспоминания, надежды – не химеры ли это? А если и нет, то, быть может, они куда более невзрачны, чем нам казалось?
Этот метод в отношении всех явлений – «обнажать и разглядывать их невзрачность и устранять предания, в какие они рядятся» – походит на использующуюся многими психологами «терапию реальностью» и дает удивительные результаты, в перспективе могущие как укрепить убеждения мыслящего, так и изменить их. Ты просто проверяешь свои когниции на вшивость – смотришь на них максимально отстраненно и равнодушно, как если бы они были чужими.
Тем не менее, предлагаемый Аврелием циничный (в буквальном смысле – стоики во многом наследуют этике киников/циников) взгляд на вещи не так-то легко осуществим даже в качестве минутного мысленного эксперимента. Главное ограничение, которое неизбежно приходится преодолевать любому, кто решается редуцировать предметы мысли до их голого нутра – ограничение моральное. «Не хочу даже думать об этом – стыдно даже в мыслях такое иметь». Будто бы сомнения в реальности и ценности чего-либо важного сами по себе являются предательством оного. Другая причина, по которой люди стараются не практиковать подобный метод сведения сложного к простому и возвышенного к низменному – страх. Мол, если усомнюсь в ранее несомненном, вдруг я потеряю важную жизненную опору? Разумеется, такое опасение не проговаривается даже про себя, но чисто на эмоциональном уровне нередко блокирует аврелиевскую методу.
Я довольно часто провожу такие редукции – но не потому, что дошел до высокого уровня осознанности путем длительных духовных упражнений в стоическом ключе, нет. Наверно, это что-то чисто природное (так мозги сами устроились), на что удачно накладывается жизненный опыт. Просто в какой-то момент приходишь к пониманию того, что достаточно спокойно расстался с тем, от чего раньше зависел – и ничего страшного не произошло, жизнь продолжилась. Меняются люди вокруг, меняются условия, меняются убеждения, приходит лучшее понимание себя – а ты сам примерно такой же, каким был. Потому вопросы «а существует ли то, во что я верю, или это иллюзия» или «а так ли уж непререкаем авторитет человека, которого я сам выбрал в качестве такового» – не стыдны, не кощунственны и не страшны.
В отношении больших идеологических нарративов метод Аврелия лучше всего работает следующим образом: нужно протестить нарратив на элементарном бытовом примере. Помню момент, когда я перестал испытывать даже элементарную симпатию к традиционализму. Мне года 22, читаю я Рене Генона, который вещает о том, что люди традиционного общества принципиально отличались от нынешних, потому что понимали сакральные истины – притом все люди, от низов до верхов. И вот мне представился гончар в Древней Индии – тот, что целыми днями лепит свои приблуды и тут же их продает. Сам собой возник вопрос, какая такая духовная реальность была у этого ремесленника, которая могла отличать его от современных людей? Допустим, он был религиозен – но ведь религиозность не равна духовности. Потом как-то само собой представился его день – вот он встал, потянулся, помолился, помочился… Помыслить, что этот день он провел «сакральнее», чем любой из нас, при всем желании (оно было!) не получилось. Равно как и то, что любой из сегодня живущих знает об устройстве мира в сотни раз больше, чем прежние люди, не делает его умнее – только информированнее.
Подобные частные примеры помогали распознать и другие заблуждения. Представляешь себе конкретную индивидуальную ситуацию, и красивые лозунги уже не туманят разум. «Какие прекрасные были люди в XIX веке… Сейчас таких нет». Ну да, вот шел себе человек по окраине Симбирска году эдак в 1819-м, а вокруг что ни человек, то прекрасный. «Россией правит идея!» – ну да, вон Святополк Изяславович, Василий III Иванович, Елизавета Петровна и Борис Николаевич шагу без идеи ступить не могли. «Без Бога нация – толпа», ну-ну, а с богом толпа – нация, конечно. «Нищих быть не должно!» – конечно, не должно, а оплачивать долги за онлайн-казино и ставки на спорт бедному должен тот, кто живет по средствам и много работает. «В заговоры верят только идиоты» – ну да, а хором убеждать училку, что она домашку не задавала, никто никогда никого не подзуживал. «Политик должен быть честным, но таких сейчас нет» – ну да, честным – который выйдет и объявит народу, что тот ни в чем ни хрена не понимает, много требует, много отдыхает и платит политикам копейки – и люди тут же его полюбят. «Нужно отдать всю власть на места – свобода ассоциаций!» – ну да, на местах-то люди сплошь компетентные и порядочные, с криминалом не связанные, кумовству чуждые.
Моя последняя (на данный момент) идеологическая иллюзия, которая не прошла проверку после «терапии реальностью» – это идея культуры как чего-то системо-, смысло- и государствообразующего. Эта иллюзия очень приятна нам, людям культуры. Когда-то отдельные интеллектуалы могли влиять на ход истории, особенно если были первыми в своем деле – но теперь это почти невозможно. Но пафоса у нынешних творцов хоть отбавляй – «мы формулируем смыслы», «мы вырабатываем идеи», «мы влияем на умы», «мы воспитываем будущее поколение», «мы смягчаем нравы», «мы задаем интеллектуальные тренды»… И ведь ни одна сволочь честно не скажет, что единственное, чем занимаются как созидатели (философы, литераторы, художники), так и хранители культуры (историки, музейные работники, преподаватели вузов) – это пусть и утонченное, но все же развлечение культурной публики.
И это в лучшем случае: чаще всего все эти ребята с охрененно богатым внутренним миром и чувством собственной важности вообще никому не интересны, кроме кучки таких же как они. Для остального населения они – болтуны и позеры (что верно), а для власти они – комичные, некомпетентные, шумные попрошайки с идиотскими завиральными идеями (что еще более верно). Но эти люди так любят себя и так не любят реальность вокруг, что умудряются придавать своим мыслевыделениям статус всеобщих объяснительных моделей – задним числом подвязывая к ним произвольно выбранные факты. Эти модели объясняют, действительно, все – божественный замысел, национальную идею, смысл человеческого существования, причины глобальных катаклизмов и перспективы развития мировой цивилизации на века вперед.
«Страшно это нелепое ослепление, и как раз когда кажется тебе, что ты чем-то особенно важным занят, тут-то и оказываешься под сильнейшим обаянием». Страшно, зато приятно. Приятно жить в мире, в котором от тебя (объективно) ничего не зависит, но (субъективно) чувствовать себя экзегетом прошлого и конструктором будущего.
Иллюзии творческих людей еще более наивны, чем иллюзии людей бескультурных, особенно когда они рассуждают о реальной жизни – тем более жизни политической. А что до меня, то мне все яснее истинность слов Лао-Цзы:
«Мудрый правитель мысли опустошит, желудки наполнит. Ослабит волю, укрепит кости. Пусть не будет у народа ни знаний, ни страстей. Знающие пусть бездействуют. Бездействие ведет к покою».
Воистину.