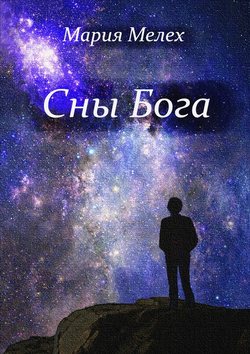Читать книгу Сны Бога. Мистическая драма - Мария Мелех - Страница 2
Предисновие
Глава 1
ОглавлениеУтро первого января. Обычное серое утро первого января. Ночью мы с друзьями впустую растратили остатки рождественского волшебства в излюбленной пивнушке напротив моста. Я уже взрослый мальчик, но люблю Рождество. В моем детстве не было никаких дурацких историй, которые исковеркали бы представление о нем. Обычно, если в кино действие начинается с Рождества, обязательно находится кто-то, не выносящий его красно-зеленого боевого раскраса и елового аромата. Моя семья была до того правильной и благополучной, что я едва избежал угрозы засахариться к совершеннолетию. Впрочем, некоторые утверждают, что так оно и произошло. Но младенец Иисус исправно снабжал меня и моих сестер подарками, пока мы обходили городок, отвешивая праздничные поклоны родственникам и друзьям.
Рождество – это обещание чуда, не так ли? Апогей веры в свои мечты, экстракт надежды, питаемый юркими нейронами головного мозга, несущими воспоминания о детстве. Или жизнь меня все-таки пересластила? Ладно, оставим. Я могу часами рассуждать о волшебной пыльце, рассыпанной в морозном воздухе – той самой, что позволяет детям летать. О безмолвной тайне, застывшей в вышине – она творит единство и связывает сердца. Я ведь художник, я сотни раз рисовал это, по вдохновению и на заказ. Я талантливый жиголо, знающий пароли и такты, я все это – понарошку.
Новый год – совсем другая история. Это уже… (считаю на пальцах) … седьмой день после надежды на чудо. Это рубеж, жестокий гонец, который ухмыляется недоброй рожей, бесцеремонно стучась в окно: ему, видите ли, лень было дойти до двери. Он всматривается в тебя беспощадными глазами, будто хочет сказать: ну, что? Уже неделю отмахали, а чуда так и не произошло? Новый год начался, отсчет пошел – что будет у тебя в руках к следующему Рождеству? Или в тысячный раз ты загадаешь прежнее, на один вечер невесть откуда взяв силы вновь верить?
Я уже семь сочельников подряд произношу одно и то же имя. А как у вас обстоят дела?
Утро. Первое января. Проснувшись, я подошел к зеркалу. Увиденное требовало двух литров ледяной воды на голову и энергичного массажа ежовой рукавицей. После душа изображение оставалось почти тем же. Признаться, я не вынес и нескольких капель льда – может быть, в этом дело? Если впрыснуть безумной радости в зрачки и изобразить улыбку Чешира, я буду выглядеть, как раньше?
Когда – раньше? И откуда мне выкачать шприцом эту радость, неужто из сердца? Мне бы немного куража и жизни, и меня можно вновь презентовать публике. «Сегодня вашему вниманию мы представляем знаменитого мага и волшебника, шута всех королей… тьфу ты! Короля всех шутов…» Кто-нибудь желает быть очарованным? Кому сияние цвета и колдовство движения? Новые декорации к знаменитому спектаклю? Уличное шествие с цветочными платформами? Закат из розовых драпировок на мосту в Сан-Франциско? Я художник, детка. Я нарисую тебе все, что ты хочешь.
Снилась ли ты мне сегодня, милая?
Мое лицо изменилось, это тяжело осознавать. Я подолгу могу смотреть на себя в зеркало, как бы ни выглядело это со стороны. Я не нарцисс, я ищу тебя в своих глазах – они остались прежними. Я пытаюсь разгадать тайну своей физической оболочки: она прячет слишком многое. Может быть, в другом мире, после тысячной смерти она взорвется, наконец, и покажет Вселенной то, чем я являюсь на самом деле? Но и в этой загнанной, заложенной дьяволу жизни мне все еще есть за что любить свое истраченное тело. Мы ведь с тобой так похожи, словно наколдованы алхимиками из одного звездного пламени, и экстракт его – в глазах. Я узнаю тебя по глазам, что бы ни происходило с тобой в эти годы.
Снилась ли ты мне сегодня, милая?
Какие сильные воины встречаются в книгах, у которых я вымаливаю помощь, найдя в них отсветы собственной боли! Да, о таких, как я, уже написаны огромные трактаты. Но созданы они по одним и тем же законам, предписывающим оградить страждущего читателя от неприглядных сторон темного пути. Кто изображен в них? Маги, волшебники, колдуны, умеющие прочитать и схватить цепкой рукой каждую секунду своей жизни. Как ловко смеются они над судьбой и увиливают от ее отравленных стрел! Я не такой. Даже если я признаюсь, что умею делать многое из того, что вытворяют они в своих знойных прериях и под тенистыми сводами дорогостоящих оазисов (а кто, спрашивается, оплачивал им все потусторонние развлечения?) … Даже если я признаюсь – что толку? Я не смог освободиться, меня не манит вечность без моей любви. Я странный. Мне слишком часто говорили это. Чаще, чем бросали в лицо обвинения в недостатке мужественности.
Сейчас я найду красивое оправдание своим слабостям, подождите секунду, у меня это хорошо получается. Ах, вот оно! Мне всегда было интересно: если, согласно древним сказкам, душа Адама разбилась на шестьсот тысяч частей, откуда нас уже миллиарды?1
Да, я сам знаю ответ, но он вам не понравится. Каково это – уже в начале рассказа получить диагноз? А вы думали, это я слаб? Посмотрите-ка на свое отражение! Души продолжают разбиваться по сей день. От тех самых причуд человеческого эгоизма, именуемых в религиях противным словом грех (я его не люблю, кстати). Получается, что найти цельного человека – большая проблема. Еще один из древних ходил по улицам со светильником, я помню. И я тоже не целен. Мое отличие в том, что я могу забраться на трибуну и, держа в руках шутовской колпак, признаться в этом. А спустя секунду высмеять вас, тем самым еще больше обнажив свои комплексы и подтвердив неполноценность.
У меня только половинка души: вот страшная догадка, которая объясняет всю ненормальность и пародийность моей жизни. И я знаю, кому досталась вторая часть, причем лучшая! Ей не хватает лишь моего упрямства и сумасбродства – судя по тому, что она до сих пор до меня не дошла. А мне не хватает… всего остального. Я найду тебя, любовь моя, и заберу эту половинку себе.
Что ж я о себе так униженно и покорно? Обвисшие после попоек щеки не повод бичевать себя при свете рамп. Разве на меня сейчас не смотрят тысячи глаз? Итак, я сумасшедший, чокнутый. Но держусь на плаву и, наверное, многие завидуют моему счету в банке. У меня есть влиятельные друзья во всех европейских странах, я гражданин мира и владелец нескольких особняков… что там еще? Коллекция ретро-автомобилей и парочка сверхзвуковых новинок – этого достаточно, чтобы польстить моему мужскому самолюбию и успокоить зудящий снобизм? Этого хватит, чтобы полностью презентовать себя? На самом деле, я просто достаточно богат и успешен, жизнь сложилась, и мне не на что жаловаться, вот и все. Я известен в определенных кругах, не чуждых причудливой игры светотени. Я художник, переживший все, что дозволено – но главное! – велено пережить художнику. Меня зовут Николас Фламинг.
Это все портит? Как насмешка над судьбой, как слишком яркий фантик, обязывающий к изысканному и сочному содержанию. Моя заботливая матушка дала мне его. «Пусть он вырастет настоящим волшебником», – пожелала она, обрекая меня на неведомые ей самой мучения. Родители часто так поступают: не хотят тащить по жизни даже самих себя, а на плечи наследников взваливают весь мир, который остался ими не завоеван.
Утро, первое января, я стою в ванной комнате своего трехэтажного особняка в предместье Лондона. Вечером у меня самолет в Милан – совещание по одному забавному проекту, предчувствую: очень акварельному, лиловому, с красноватыми подтеками. Понятия не имею, откуда в моей жизни все это. Наверное, дураков Господь особенно любит и ведет их, глупых, бережно поддерживая под руку. Мне больно, больно от самого себя. Но я ничего не могу с этим поделать, я вынужден мириться. В отличие от всех остальных умников я точно знаю, что произойдет, если я выйду из Игры. Поэтому и терплю.
Снилась ли ты мне сегодня, милая?
О, знакомая настойчивая трель из кармана брошенного невесть где пиджака. Настырно, очень настырно. Могу поспорить, это Дорис. Энергия ее целеустремленности пробьет любые измерения. Она узнаваема, какая бы погода ни стояла на дворе. Вчера она была с нами в пабе – контролировала степень моего алкогольного опьянения и доступности женскому населению нашей планеты. Два месяца, как она официально моя секретарша, и порой мне кажется, что она претендует на большее. Кажется? Как смешно! Эта девица уже шесть лет – с тех пор, как прошел слух о моем грядущем разводе с Глэдис – выскакивает из-за всех углов со своей лучезарной улыбкой, как чертик из коробочки. Не знаю, чего больше в этом коктейле: моих денег или ее детской мечты?
Погоди, солнышко мое, я отвечу ей и вернусь к мыслям о тебе.
– Да. (Господи, дай мне усталость всего мира в мой голос).
Заботливое щебетание в сотовом. Трепетный зяблик. Нежная куриная грудка в сливочном соусе. Экологически безопасная щетка для чистки самой дорогой мебели – извечно белая и пушистая, как заячий хвостик. Видишь, как я признателен тебе, Дорис? Это чувства, которые ты рождаешь во мне. Попробуй только сказать, что я неблагодарен!
Оказалось, ночью, по дороге домой, я соизволил жаловаться, что забыл перчатки на диване в кабаке, и мои руки замерзли. Теперь, видимо, не выживу без чудодейственного крема, доставшегося ей в наследство от бабки-ведуньи. «А крем-то заговоренный?» – спрашиваю я с нервным смешком. «Что?» – недоуменно переспрашивает она, не в силах понять то, что выходит за рамки ее дипломной работы по менеджменту. Все-таки соображает, заливается деланно серебристым смехом: «Ну что ты такое говоришь! У тебя потрескалась кожа, сейчас забегу, я неподалеку».
Она всегда неподалеку. Прилипчивая фея, готовая материализоваться по первому моему зову. Разве я ее звал? Я хочу отказаться от ее помощи, но вдруг понимаю, что услышу в ответ: не болит ли у меня голова после вчерашнего? Успею ли я перекусить перед тем, как отправиться в аэропорт? Позвонил ли я домработнице насчет своего кота и попугая? Подумал ли, что положу в чемодан?
Нет, черт возьми, я не подумал! Выходит, у меня тысячи причин сдаться ее заботе. Она все равно использует любую из них, и всей земной дипломатии не хватит, чтобы придумать красивый вежливый отказ, не разрушающий мой галантный образ.
Я переодеваюсь в джинсы (встречать Дорис в махровом халате равнозначно сексуальной капитуляции) и нахожу удобный выход: Джон и Анна, всегда готовые накормить меня излишне калорийным, но вкусным обедом. Теперь надо незаметно внедрить нужный каскад мыслей в голову моей помощницы – да так, чтобы она саму себя заподозрила в глупом расчете. Журчит домофон, и я впускаю зубную фею (слышите этот нервирующий жужжащий звук?) в свой замок. Вдруг понимаю, что забыл надеть рубашку, и с язвительной усмешкой, адресованной самому себе, признаюсь, что сделал это из чувства отборнейшей вредности.
Пока она втирает крем, с многозначительной пристальностью всматриваясь в мое лицо, я рассказываю ей о своих планах и сетую, что не успею уложить вещи и как следует пообедать. Дорис предлагает заказать пиццу. Заметив мой недовольный взгляд, спохватывается и торопливо перечисляет все меню ближайшего китайского ресторанчика. «Дорис, – терпеливо разъясняю я, – мой желудок не вынесет этой перченой ерунды после нашей вечеринки. Мне нужен хороший домашний обед. Я бы приготовил сам, но голова раскалывается…»
Я выпускаю всю обойму, припася напоследок домашних животных. Теперь у заботливой подруги не остается ходов: я заранее согласился со всем, предоставив ей возможность целиком и полностью заняться моей жизнью на сегодняшний день. У меня даже есть тайное оружие сарказма – быть может, она и не заметила, но оно одним залпом уничтожило ее попытки все контролировать. Дорис не умеет готовить! Она не подарит мне милую ароматную возню на кухне, пока я смогу отоспаться от своих дурных мыслей. А значит, не удержит меня рядом с собой. По крайней мере, сегодня. Ведь желудок уже сводит от болезненной пустоты, сожженной кислотой вчерашних коктейлей.
Сейчас мне уже начинает казаться, что так оно и есть, и я чувствую пряный дискомфорт в солнечном сплетении. Боже, когда ложь стала моей излюбленной мантрой? Я и сам отменно готовлю – лучше, чем все женщины, которых я знал.
«Джон, да, Джон, – говорю я, опережая ее догадки, – ты же знаешь, у них всегда найдется что-нибудь для меня». По ее лицу вороньим пухом пролетает тень ревности, но она вовремя возвращается к улыбке, жертва псевдо-психологической литературы.
Мы идем в спальню – о, какое опасное мероприятие задумал я, и как мечтательно обводит она затуманенным светлым взором синие тканевые обои в моем алькове – и я задумчиво рассуждаю вслух, какие костюмы и галстуки мне понадобятся. Я даже упоминаю о носках и белье – а почему нет? Я подпущу ее чуть ближе, и она, одурманенная моим доверием, исполнит любой каприз, будь то составление сметы или стакан с шипящим гейзером аспирина. Вываливая на постель свой театральный реквизит, обессилено сажусь на шелковое покрывало и опускаю голову на руки. «Не знаю, Дорис, – жалобно говорю я, – не знаю… Какая погода завтра в Милане?» Она не решается присесть рядом, но завороженно смотрит на ворох кашемировых свитеров, осторожно вытаскивает один: «Ник… Господи, как идет к твоим глазам!» Я вслепую выхватываю свитер из ее рук, встаю и натягиваю на себя: все равно скоро уходить к Джону, а моя спальня не предназначена для кувырков с секретаршей. Она, затаив дыхание и почти на цыпочках обходит меня, деликатно расправляя складки на плечах и груди.
– Ну так что, я могу доверить тебе это царство, дорогая?
– Конечно, Ники, – с придыханием уверяет она, – я все улажу и уложу, не беспокойся.
– И погоду? – улыбаюсь я. Дорис только разводит руками.
Мы спускаемся вниз, и я одеваюсь к выходу. Потянув собачку молнии, застреваю в собственной куртке, и помощница вмиг оказывается рядом, нежно вытаскивая меня из капкана. Она смотрит на меня снизу вверх, умудряясь уменьшиться в росте. До моего возвращения в город это ее последний шанс поймать желанное прикосновение. Я мог бы ее поцеловать, у нее приятное лицо и мягкие губы, и наверняка их влажность и податливость подберут нужные ключи к моему подсознанию – все это старо, как мир, но… Ничто не возбуждает меня так, как тайна, а придумывать фасон ее темного покрова, который подошел бы моей лучезарной секретарше, слишком утомительно. Все слишком просто в этих серо-голубых глазах, как сладкая мечта каждой девочки в этом городе, спрятанная в коробке для Барби. Я могу представить, как в Зазеркалье моей души она протягивает ко мне свои холеные пальцы – откуда-то снизу, из клубящегося мрака под моими ногами, там тебе и место, Дорис – и почти профессионально скользит ими вверх по моей ноге. Но мне… лень.
– О, нет…
– Что, Николас? – она терпеливо отступает в тень ожидания, как все эти годы, готовая выплеснуть свою страсть в любую мелочь, относящуюся ко мне.
– Фарух и Бимбо, я забыл о них. Ты сможешь приглядеть за ними, пока я в отъезде?
Дорис как-то странно смотрит, и я тороплюсь попрощаться, пока мой план сбежать от нее, заковав в цепи ее собственной влюбленности, не рухнул.
– Я все улажу, Ник. Я же сказала, – отвечает она без улыбки, и я, виновато скривившись, выскакиваю на улицу.
Издеваясь над моей неприязнью к Новому году, тихо падает настоящий рождественский снег. До дома Джона и Анны рукой подать, и вскоре я уже воюю с обледенелым засовом их ограды, пугливо поджимая пальцы – перчатки я и впрямь не нашел дома. Подозреваю, они прячутся в сумочке у Дорис, как входной билет в музей моей одинокой жизни.
«Привет, малыш!». Джон внимательно смотрит на меня – как всегда. После некоторых событий он в буквальном смысле не спускает с меня глаз. Он всматривается в меня, пытаясь поймать оттенки настроения, и легкая досада подрагивает чешуйчатым хвостом на дне моей души: он так добр, но совершенно обычен, и его рецепты счастья написаны аккуратным округлым почерком с продавленными от усердия буквами – на дешевой бумаге, за стойкой местной аптеки, в которой лавандовый дух французских масел напрочь убит парами крепких настоек.
Но, несмотря на всю простоту друга, я не могу уловить в его крохотных зрачках свой диагноз – верит он мне, или его забота есть снисходительная жалость сильного самца к природному недоразумению? «Ники, мечтай, сколько хочешь, кто у тебя это отберет, но ведь хозяйка в доме не помешает?» – ласково спрашивает он меня, осторожно заглядывая в глаза. Его собственному браку с Анной всего год, и Джон преисполнен надежд на собственное перерождение: они пересмотрели еще не все милые сюжеты в уютной камере-обскуре. Если быть до конца искренним: я не вполне уверен, что мой друг не разобьет сердце своей избранницы. Даже пятнадцать фунтов, исправно прибавляемые каждый год, не мешали этому шумному белокурому гиганту согревать под своим одеялом целые гроздья разномастных девиц.
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты? Я попытаюсь прочувствовать синтонию наших душ – когда-нибудь, как-нибудь. Но любовное измерение – не та плоскость, в которой мы поем в унисон. В общем-то, я не задумываюсь о нашей схожести или разнице. Джон мой лучший друг: быть может, эта античная формула работает на дополнениях? Он тот, кто подхватывает меня, когда мои колени подгибаются.
Анна хлопочет в столовой, а я поудобнее устраиваюсь в кресле в теплой гостиной.
– Дорис? – спрашивает он, слишком осведомленный о моей небогатой на непредсказуемость жизни.
– Да. Собирает мне чемодан. Надеюсь, ничего не перепутает.
– Будь уверен, – с подчеркнутой сухостью отвечает мой друг, – она отлично понимает, что тебе нужно.
– Джонни… Нет. Не начинай, прошу.
Я устало провожу рукой по лицу, прикрывая глаза, и ловлю себя на горькой мысли, что искренность этого жеста уже давно убита моей публичностью. А ведь мне именно этого и хочется – почти всегда! – просто закрыть глаза и отключиться.
– Я понимаю, что Дорис твоя приятельница, но пусть она навеки останется моей секретаршей, хорошо?
– Она может работать на тебя, если даже станет твоей подругой и, тем более, женой. Это глупые отговорки. Сколько можно жить бобылем? Твоей Глэдис давно уже наплевать на тебя!
Я отмахиваюсь от него: с тех пор, как Джон женился, у него в голове только растиражированные планы моего счастья. Может быть, все дело в скрытом чувстве вины – совершенно напрасном, на мой взгляд, ведь наши совместные походы по злачным местам не закончились вместе с его шумной свадьбой. Анна пока что удачно вписывается в навязанную ей роль все понимающей женушки заправского кутилы. Да и мое воспитание и характер не позволяют придать этим вечерним посиделкам в кабаках чрезмерную игривость – которую Джон, не будь рядом меня и супруги, в два щелчка своих крепких толстых пальцев довел бы до фарсового скандала.
– У нее есть бойфренд, ты все время забываешь об этом.
– Да, а твоя знаменитая порядочность не позволяет тебе этого сделать.
Джон грузно поднимается со своего кресла и подходит к бару. «Пропустим по стаканчику перед обедом?.. Анна, любимая! – орет он в невидимое пространство внизу, не обращая внимания на стены и пол. – Когда там уже?» С первого этажа доносится довольное чириканье, из которого мы понимаем, что «барашек почти поспел, но картошка еще томится». Джон довольно улыбается. У них свои пароли и секреты, свои роли в домашнем кино. И это ароматное тепло его обновленного человечьей любовью дома – ни что иное, как еще одна стрела, которую этот жирный купидон безыскусно и грубовато пытается всадить мне в сердце, видимо, путая его с терпеливым лоном своей жены. «Видишь… – лукаво подмигивает он, зная, что я слаб и зависим от комфорта и заботы, – к черту ее парня, Ник, ты же знаешь, что она в тебя влюблена!»
– Влюблена в меня. Уже шесть лет. И все это время спит с другим и водит его за нос, откладывая помолвку. А он, как последний неудачник, слеп и ничего этого не видит? Тебе не кажется, что это о многом в ней говорит, Джонни?
– А что бабе одной быть? – рассуждает он. – Что ж ей теперь, загнуться в холодной постели?
Мы слишком близко подобрались к любимой теме моего друга, но я уже не могу удержаться и подпускаю яду: «Действительно… Вдруг навыки потеряет?»
Джон гогочет, виски в его стакане ритмично отплясывает ирландский рил. Он доволен, его родная стихия подчиняет себе весь мир, и в ее торжестве он готов не заметить, что ни на шаг не продвинулся к моей холостяцкой крепости. «Ну а что? – смачно громыхает он своей житейской мудростью. – Всем известно, что ты у нас привереда!»
Да, я большой привереда. Я знаю, что любовь профессионализмом не подделать.
– Да ладно! – с примирительной надеждой резюмирует он, – дело к концу близится. Стоит бабу в дом пустить, а к сердцу она ключ подберет. Дорис – умничка…
– Она всего лишь секретарша, пусть я и позволил ей рыться в моих вещах, – прерываю я его, а затем оттягиваю ворот свитера и поддеваю пальцем шнурок. – Вот этот ключ, и никто без моего разрешения… Ты понял?
– Это ключ от твоей мастерской, Николас, – отрезает Джон.
Я презрительно поджимаю губы: что бы знал этот любитель пива об устройстве моей души? Но за всем его грубоватым непониманием чувствуется решительная и жестокая нарочитость хирурга, определяющего границы плоти, пораженной болью. Он опять пытается донести до меня мысль, что я сплел в адский колтун пути, по которым бродят мое тело и сознание.
После неторопливого сытного обеда мы обнаруживаем, что пора отправляться в аэропорт, и я набираю номер Дорис: шофер должен забрать мой чемодан, пока мы с Джоном допиваем откупоренную коллекционную бутыль в машине. Я наивно надеюсь, что больше не увижу ее на этой неделе, что ей не взбредет в голову какая-нибудь особо романтичная идея попрощаться со мной в бензиновых парах моего роллс-ройса… «Я уже в Хитроу», – устало отвечает она.
Как? Почему? Я очухиваюсь от никчемного сна, похожего на серое напыление дня на ослепительном снегу, ощущая, как поводья сюжета выскальзывают из моих рук со склизкой упругостью, словно черные щупальца осьминога.
«Николас, ты никогда не можешь рассчитать время, – тихо и покорно поясняет она, – и потом, ты даже не вспомнил о папке с предварительной сметой и бланками договоров». Тихая агрессия вкрадчивым облаком газа заполоняет мой мозг, я бросаюсь на защиту своей свободы: «Дорис, я летаю почти каждую неделю, меня быстро пропускают, к чему эта перестраховка? За папку спасибо. Скоро мы будем на месте, и я отпущу тебя домой».
И тут все становится на свои места.
– Я лечу с вами, Николас.
– Зачем?! – неприкрыто изумляюсь я.
Мне не до забот о галантности, я чувствую себя глупым зверем, попавшим в ловушку: как можно было доверить ей покупку билетов? Она даже не предупредила меня, что хочет полететь. «Я твоя секретарша, Ник, – шипит ее голос в динамике сотового, – ты и там можешь оставить все, что угодно: хоть договор, хоть чек оплаты. Не бойся, я не буду много мешать, в Милане полно магазинов». Ее звенящий свист сменяется гудками.
Черт возьми, когда мои отношения с секретаршей превратились в семейные? Что она себе позволяет? Мои мысли скачут от недоумения к ярости, пока машина мчится меж заснеженных полей и цветных поместий, но в конечном итоге я вынужден признать, что она идеально справилась со своими служебными обязанностями. Каменное русло справедливости заставляет меня сдавить эмоции в плотный комок, уже остывающий где-то на дне желудка, а вместе с ними я запрягаю в оправдания и безотчетный страх перед будущим, настойчиво скребущий игольным острием мое сердце.
Мы проходим регистрацию молча, и она все время прячет от меня лицо. Я вижу, как подрагивает уголок ее рта, как судорожно сглатывает она свою обиду.
– Дорис! – не выдерживаю я. – Спасибо за все, правда. Надеюсь, таксист помог тебе вынести мои вещи? Надо было просто предупредить, что тоже летишь…
– Все нормально, Николас, – отвечает моя преследовательница, пытаясь улыбнуться, – и, кстати, я попросила домработницу как следует присмотреть за твоими питомцами. Это ты извини, мне не надо было срываться.
И тут же не вовремя замечает излишнее красноносое веселье Джона.
– Ты же говорил, что плохо себя чувствуешь, – с укоризной произносит она, не сводя с меня глаз.
– Нет, я не говорил такого, – я с отчаянной смелостью отвечаю ей тем же прямым взглядом.
– Нет, говорил, – не сдается Дорис, – ты жаловался, что у тебя болит голова, и… Ай, да ну вас!
Взмахивает рукой и вновь отворачивается, но на этот раз ее движения решительны, и она ловко лавирует в человеческом потоке, выбирая удобное место в зале ожидания. Оставшиеся полчаса до рейса мы проводим, время от времени перекидываясь ничего не значащими фразами, и Джон пыжится изо всех сил, чтобы начать, наконец, спектакль под названием «Ромео и Джульетта. Припозднившиеся». Но его клоунская маска недостаточно хорошо прорисована, и въедливая рожа деревенской свахи нет-нет, да и бесовски выглянет из-под нее. Да и само действо больше напоминает балаган на местной ярмарке. Слава Богу, на табло загораются долгожданные зеленые огни, и девушка в красной форме отдергивает штору, за которой открывается белоснежный, подрагивающий от нетерпения, коридор. Я просто взмываю к ней в предвкушении уединения в чертогах своего сознания и души.
Мне бы добраться до кресла в самолете и уснуть, залив в нутро дозволенную авиакомпанией порцию алкоголя. Я не люблю сидеть у иллюминатора – страх перед полетами как магнит приковывает мой взгляд к смертельной пропасти под облаками. Но сегодня я вынужден пересилить себя: раз уж Дорис летит с нами, я попросил Джона побыть пограничной горой, защищая меня от жарких ветров ее любви, дующих через проход между рядами кресел. Иначе я просто не смогу погрузиться в сон.
Мой друг – один из немногих в этом мире, кто знает мой главный секрет, и я вполне могу доверить ему свое расслабленное тело. У меня к нему единственная претензия: он слишком любит снимать меня на камеру – в том числе, когда я сплю. Напиваясь, он начинает в красках рассказывать, какой фурор произведут его домашние архивы, если он решится выкинуть их в сеть, и сколько он сможет заработать на них, продав поклонникам моей масляной мазни. Но я знаю, как собственное имя, что он никогда этого не сделает. И понял я это еще пять лет назад, когда он сказал мне, проснувшемуся в судорогах и рыданиях: «Ники, ты не представляешь, как я рад быть всего лишь человеком, которому после плотного ужина с пивом и жареной картошкой снятся грудастые блондинки. Самое необычное в моих снах – это виски, сочащееся из их сосков. Вот это класс! А тебя, малыш, мне искренне жаль».
И когда стрекоза в форме стюардессы прекращает махать прозрачными крыльями, я сползаю в кресле, скрещиваю руки на груди и закрываю глаза. Правым виском я чую шевеление воздуха от беззвучных попыток Дорис в тысячный раз пробиться к моей душе, но Джон спасает меня, отвечая ей: «Тсс-сс, ты же знаешь, он устал, пусть отдохнет».
Впервые за шесть часов я вдруг осознаю, что мне так и не позволили погрузиться в мысли, занимавшие меня утром. Иррациональная обида ворочается болезненным клубком над ключицей, и я действительно чувствую непостижимую усталость от всего, что со мной произошло в мире, называемом реальностью – сегодня, вчера, в прошлом году и за последние десять тысяч лет. Я цепляюсь за собственное дыхание и отзывчивыми ступнями нащупываю цепочку мыслей, порождающих необходимый эмоциональный поток. Я уплотняю эфир, я посылаю запрос, пеленгую космос внутри себя – другого и не существует, если вы хоть что-нибудь понимаете в этой жизни.
Для начала я ищу твой огонек, трепещущий на ветрах мироздания. Это уже счастье: знать, что ты жива. Затем я всматриваюсь в его цвет и, сам не понимая, как, соединяю провода, улавливая твое настроение. Если повезет – сольюсь с воздухом вокруг тебя и обниму твое тело. Может быть, ты будешь спать, и тогда я с настойчивостью, достойной Дорис, прорвусь в твое подсознание – но, к сожалению, ты успеешь обрядить меня в безопасные одежды и маски, так и не увидев моего лица. Хорошо, если ты танцуешь: ты теряешь контроль, не замечая этого, и я свободно сижу в тени, откровенно наслаждаясь тобой. Это ничего не дает, кроме обычных удовольствий падишаха, наблюдающего за своей одалиской, но в танце мне легче всего удержать твою душу, которую ты обязательно обронишь в каком-нибудь откровенном движении. Я бережно смыкаю пальцы в полупрозрачный кокон, и она трепещет, оставляя на мне свою пыльцу. После этого я смогу прожить еще несколько дней, растворяя эту разноцветную пыль в красках, рисуя биение твоего сердца, извлекая и выплескивая на полотна пейзажи из твоих зрачков. И я засыпаю, наконец провалившись в свой собственный мир.
1
По каббалистическим представлениям, изначально была создана одна душа, Первый Человек – Адам Ришон. В процессе развития она разбилась на 600 тысяч душ.