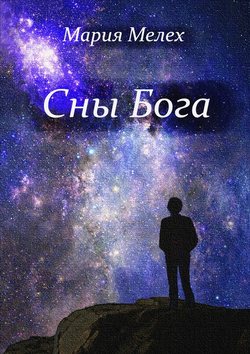Читать книгу Сны Бога. Мистическая драма - Мария Мелех - Страница 5
Предисновие
Глава 4
ОглавлениеЯ родился в крошечном городке в графстве Стаффордшир – маленьком оазисе традиций в зеленой ячейке сети, сплетенной из железнодорожного полотна и автомобильных дорог. Наша семья жила в старом двухэтажном доме из красного кирпича, необычайно добротном и терпеливом, несмотря на полуторавековой юбилей, встреченный вместе с моим двадцатилетием. Мы были не богаты, но и не бедны: всегда хватало на провинциальную жизнь и оплату обычных желаний. Никто в моей семье не виноват в том, что однажды у них появился чудаковатый малый, решивший, что ему предначертано завоевать мир, а потому брезгливо отвернувший точеный нос от размеренного местечкового снобизма и лаконичной претенциозности деревенских сквайров. Все проходит, и это прошло. Оставшись в гулкой пустоте, наедине со своей памятью и сундуками с золотом, я приполз на ближайший рождественский ужин к родственникам: молчание будущего было столь невыносимо, что мне быстро захотелось пряного аромата прошлого. Меня приняли, и даже ни о чем не спросили, накормив и уложив спать в моей детской комнате, а теперь – плохо отапливаемой мансарде, прохлада которой показалась моему сердцу огнем катарсиса. Это было год назад. Всего лишь.
Однако теплая, цветущая пыльцой вода воспоминаний не в силах затопить мой прагматичный разум целиком. Мое детство и то, что смогли дать мне родители, было самым обычным. А все волшебное в него привнес я сам.
Я был вторым ребенком из четверых, рожденных в нашей семье. И единственным мальчишкой, что, впрочем, почти никак не повлияло на мое воспитание. Одна из сестер была старше меня на семь лет, другая моложе на столько же, третья умерла, пару дней не дожив до полугода, когда мне исполнилось двенадцать.
Отец исполнял обязанности крупного менеджера в градообразующей компании, и по совместительству носил гордое звание местного старосты, что приобретало особенную важность в воскресенье или ближе к крупным церковным праздникам, когда от него требовалась вся мощь организаторских способностей – совершенно мне не передавшихся, кстати.
Мать была домохозяйкой и уважаемым членом дамского общественного совета. Она пекла вкуснейшие вишневые пироги и носила свой костюм от Шанель, как ни одна другая леди в нашем городе.
Мы исповедовали англиканство, и имели свой скромный титул и герб, висевший над входом в дом. Хотя попытки деда сохранить традиции сквайрства в повседневной рутине, воплощая их в высоких кожаных сапогах, охотничьей амуниции и ежедневной конной прогулке по уже не существующим владениям, так и не убедили моего отца в своем послевкусии. В свободное от белых воротничков время он предпочитал участвовать в городских стройках и автомобильно-монтажных экспериментах, проводимых в гаражах.
Когда я вспоминаю детство, во всем теле разливается непонятная и почти нестерпимая нервная тяжесть, которую я, несмотря на старания психоаналитиков и даже знакомых шаманов, не могу проработать и изгнать, как бы ни пытался. Нет, ничего исключительного, заставляющего с театральной нотой испуга вздрагивать иных истеричных мамаш, в нем не было. До сахарности порядочная семья. Строгий, но спокойный и уравновешенный отец. Все успевающая, ласковая, но принципиальная и последовательная мать. Родители никогда не ударили ни одного из своих детей. Соседи прислушивались к их авторитету. Родственники все, как на подбор, были из той же ровной, гладкой, лоснящейся породы.
И вот родился я. И уже к первому школьному звонку угодил в список редко встречающихся в здешних местах деревенских дурачков.
Все со мной было не так. Возможно, чрезмерный снобизм родителей и стремление везде и во всем сохранить лицо лишили меня столь необходимых каждому мальчишке навыков, как умение ударить обидчика – и просто более слабого. Находить сгустки и скопления ценнейших видов дорожной грязи – и приносить ее на себе в дом. Осыпать друг друга отборнейшей бранью. Раскуривать папиросы. Распивать портвейн на окраинном пустыре.
Я рос послушным мальчиком, исправно помогавшим маме на кухне и в воспитании младших детей. Отец нередко заводил нравоучительные беседы не только со мной, но и с ней, пытаясь втолковать, что строительный раствор, последние модели бензопилы, холодный туман над утренним озером, трепетный поплавок и просто, черт подери, конструирование самолетов – это именно то, что нужно мальчишке из семьи Фламингов.
Он плохо знал историю рода. Наш далекий предок перебрался на Альбион из Фландрии, прихватив с собой коллекцию собственноручно изготовленных восхитительных гобеленов и почти тайное знание особого метода окраса нитей для них. До таких глубинных истоков наша семья, гордившаяся каждой загогулиной на скромном гербе, не добралась – возможно, следуя инстинкту самосохранения, ибо тогда им пришлось бы признать право на существование таланта, поглотившего меня целиком уже с трехлетнего возраста.
И это был второй пункт в анамнезе, подтверждающем мою ненормальность.
Уже будучи взрослым, обладая связями и деньгами, позволяющими мне оплести своей паутиной всю Европу, я разыскал недостающие звенья генеалогического древа, и даже выкупил у дальних родственников, внезапно обнаруженных в Голландии, пять гобеленов. Они хранились в чулане, где-то на полпути к развалившейся мельнице, в горе хлама, стыдливо прикрытые картонными футлярами. Небрежность, с которой хозяева кладовой упомянули эти произведения искусства, поначалу позволила мне предположить, что они отдадут их почти даром. Однако, заметив в моих глазах потусторонний блеск, просочившийся в реальность, как только я увидал рыже-палевые, коричневатые, с приглушенным золотом и каплями зеленого, библейские сюжеты в сплетении нитей, они сразу нагнали цену. Я не спорил. Это было доказательство, которое я собирался отправить волшебной посылкой маленькому Ники, чтобы хоть немного поддержать его и ободрить, пока взрослые с довольной, но снисходительной усмешкой вслушивались в его увлеченное сопение над первым в жизни альбомом акварели.
Итак, это настигло меня еще до первого причастия. Шальная мысль закрадывается в мою привычную к покаянию голову: а не имеет ли мой талант нечто общее с занесенным несчастному младенцу вирусом одержимости, подхваченным майским ветром вместе с пылью на ступенях старого собора? Может, это какой-то настырный дух, влетевший в меня? Но к чему эти вопросы? Будь у меня смелость назвать себя гением – не возникла бы и необходимость оправдывать свою одержимость.
Все произошло случайно, в спокойном течении обычного воспитательного процесса. Мать усадила меня за стол, на котором уже был разложен беззащитный в своей белоснежности лист бумаги, стоял стакан с прозрачной водой, лежала приветливо распахнутая коробка с яркими, сочными, ягодными, съедобными, мармеладными квадратами красок. Конечно, в беспамятном младенчестве я уже имел опыт общения со штрихами и линиями, которые даже мог обернуть в череду концентрических кругов. Но их сюрреалистичный смысл не проник в мою душу и не оставил в ней графитных следов.
Я помню, как если бы это происходило мгновение назад: мама ласковым движением направляет мою руку, пальцы которой в судорожном испуге обхватили кисть… Динь-звяк! – металлический ободок, сжимающий пушистый хвостик, ударяется о стекло и, ведомые единым духом, мы выбираем пурпурный, обмакнув в него мокрый мех. Краска почти стекает с ворса – моя скованность не позволила фее-родительнице выверить количество капель воды – но мы успеваем донести кисть до листа, и с мягким нажимом, скользко, влажно, распространяя едва уловимый сладкий аромат, рождается линия. Она вспарывает невинность бумаги, сначала проступая насыщенным огнем, затем превращаясь в лилово-красную реку, воды которой с каждым миллиметром становятся все более прозрачными. Этот пурпурный поток пересекает карту листа слева направо, чуть по диагонали вверх. Где-то на середине кисть заваливается набок, линия скручивается в ленту, и я, затаив дыхание, наблюдаю геометрическое чудо, превратившее двухмерную плоскость в иллюзию трехмерного пространства.
Я не сразу решился повторить эксперимент самостоятельно. Как только мама встряхнула мою руку над водой и осушила кисть маленьким лоскутком, приготовленным заранее, мои ладошки нырнули в коленки и спрятались там, прижавшись друг к другу. То, что произошло, показалось мне не иначе, как магией, и я еще не знал, как на это реагировать. Может быть, это теперь станет нашей общей тайной? Или только моей? Мне очень хотелось, чтобы она ответила мне: «Это нечто вроде Рождества. Приходит редко и только к тем, кто хорошо себя вел».
Но мама сказала: «Ты можешь срисовать что-нибудь, или изобразить по памяти. Цветок, домик, кошку – что захочешь».
Значит, так делают все?..
Как такая удивительная вещь может принадлежать всем?
«Это называется рисование», – ответила она на немое изумление в моих глазах.
Итак, она бесстрашно вручила мне это чудо, и я испытал священный страх: что теперь делать с этим? Вдруг у меня не получится? Мне почему-то казалось, что между красками, бумагой и кистью уже существует потусторонний договор, и если я буду неумелым и не уловлю его, случайно направив руку не в ту сторону, меня поразит какая-нибудь небесная кара. Может быть, в ту минуту во мне впервые вспыхнула вера в собственное, персональное волшебство: то, что я нарисую – либо уже существует, либо воплотится.
Странно, но уже в тот далекий день мне ни разу не пришла в голову мысль, что рисование можно просто отложить в сторону, в ящик стола, и вынимать лишь по настроению, как очередной вид развлечения.
…Мама нежно чмокнула меня в макушку и отошла, присев на диван, поняв, что мне необходимо привыкнуть к новому состоянию. Какое-то время я оторопело смотрел на пурпурную линию, теперь показавшуюся мне и рекой, и дорогой, и змеей одновременно. Что мне делать с этим дальше? Задорный хвостик кисточки по-прежнему хранил память о маминых пальцах. Вода в стакане едва отливала розовым. Краски в коробке были приглушены и напряжены в ожидании – кроме одной, уже омытой человеческим интересом, и влажно блестевшей, то ли от счастья, то ли от стыда перед нетронутыми подругами.
Медленно я протянул руку к кисти, вновь окунул ее в воду и выбрал синий. Еще одна лента. Затем зеленый. Красный. Внезапно желтый. Бирюзовый. Розовый.
Чистый лист бумаги. Первое, что я нарисовал в своей жизни, была радуга. Из тех цветов, которые я сам для нее определил.
После этого я не мыслил ни дня без нового занятия. Поначалу родители активно поощряли меня, предполагая, что развитие моторики рук хорошо скажется на моем общем состоянии. С их помощью я постигал простейшую технику рисования, феномен четкости линий, сочетания цветов, перспективы и даже светотени. Цветовой спектр был самой удивительной из всех загадок. Его однозначная градуировка быстро показала свой коварный лик.
– Трава?
– Зеленая!
– Разве?
– Зеленая! (упрямо)
– А под тем деревом, там, где тень?
– Зеленая!
– Присмотрись…
Так я еще в младенчестве избавился от неприятной болезни человеческого сознания – способности мыслить заранее данными определениями и шаблонами. Оказалось, если правильно взглянуть на мир, его картина, представлявшаяся такой стройной и логичной, рассыпается в прах. Оказалось, мы не видим и половины, или даже вовсе не то, и наше восприятие следует программным ожиданиями. Если бы родители знали, к чему подтолкнули меня своей помощью – быть может, никогда бы не подвели сына к столь опасному дару.
– Трава под деревом?
– Черная? (Изумленно). Нет, серая!… Прозрачно-черная?
– А там, в центре лужайки?
– Желтое пятно! Лимонное, почти белое! Там солнце!
– Кора дерева?
– Я ее рисовал коричневым…
– А она…?
– Серо-зеленая.
– Небо?
– Голубое, даже без облаков. Не обманешь меня!
– Такое же голубое, как вчера?
– Я не помню.
– Подбери цвет и нарисуй. А завтра сверь.
На следующий день было столь же ясно, но мой насыщенный голубой не подошел: небо уже испепелилось солнцем, и безнадежно выцветало.
Проблемы начались позже, годам к шести, когда всем окружающим стало ясно: в общем-то, ничего, кроме рисования, меня и не интересует. Я даже не мог попросту разделить забавы своих сверстников. Абсолютно все мне необходимо было переосмыслить в царстве своей комнатки, с кисточкой в руках. Я был замкнутым, настороженным малышом, тихоней, про которого все говорят: «Себе на уме». А на уме у меня были самые невозможные миры, населенные разноцветными существами, впитавшими в себя признаки всего и вся, что я успел увидеть и почувствовать.
Но по-настоящему я превратился в трудного ребенка, когда пошел в школу. К тому времени у меня была уже собственная маленькая мастерская, наполненная подарками родственников, прознавших о моем увлечении. И только я собирался погрузиться в свой мир, приобретший, наконец, все желанные атрибуты, как появилась она.
Я сразу понял, что испытываю к ней тихую, но лютую ненависть. Она отнимала драгоценное время у мира красок, наполненного душистыми маслами и россыпью разноцветной пыльцы, у шелковой нежности кистей, дарившей рукам ни с чем не сравнимое чувственное удовольствие мягкого, но упрямого прикосновения к холсту. Вдохновение и фантазия, приходящие свыше, пронизывающие вены и струившиеся из кончиков пальцев, не нуждались в доказательстве своего превосходства над скучным набором школьных дисциплин, читаемых престарелыми ли, молодыми ли, но одинаково безынтересными, будто пустые жестянки, учителями. Грамотность была моей врожденной особенностью, считал я молниеносно, не прибегая к помощи калькуляторов. Если меня интересовала какая-нибудь история из жизни королей, городов, художников и менестрелей, я всегда мог взять подходящую книгу в библиотеке. Зачем нужна была эта школа?
После уроков я со всех ног несся к дому, дабы, забросив сумку с учебниками, взлететь вверх по лестнице в свою комнату, наглухо захлопнуть дверь и наконец вдохнуть сладковатый аромат мечты, тюбиками, коробочками, мольбертами и эскизами пленившей пространство детской. Для меня, всегда тщательно хранившего свой благовоспитанный образ, это был единственный повод прибавить шаг на узких улочках родного городка.
Домашние задания, строго наказанные педагогами, жертвами традиционной английской образовательной системы, были настоящим испытанием. Я делал их наспех, не особо стремясь в первые ряды класса, с лихвой компенсируя недостаток прилежания наивным взглядом широко распахнутых глаз. Нельзя сказать, что я был любимчиком учителей – нет, они не заостряли на мне внимание, несмотря на мою нездешнюю внешность и необычайную воспитанность. Как я уже говорил, мне удалось создать нужное впечатление, что все колючки, впадины и ухабы пубертатного периода загадочным образом миновали мой путь. Я не вызывал агрессии со стороны преподавателей – а это было мне, маленькому мечтателю, только на руку. С родителями я заключил выгодный договор, в одной части которого значились мои домашние обязанности и примерное поведение, в другой – право не подавать надежд на блистательные стипендии университетов, ждущих в свои объятия.
Вот это и стало предметом долгой холодной войны между поколениями в нашей семье. Я по-прежнему был окружен лаской и заботой. Матушка, как и раньше, поощряла мои не мальчишеские занятия, в которых я всячески старался помочь ей по дому, и даже выучился печь почти такие же вкусные торты, как и она. Но трудности, появившиеся в школе, были дурным предзнаменованием смысла жизни, поджидавшего меня за следующим крутым поворотом. Я, кажется, начинал понимать, к чему меня готовили родители. Больше: зачем меня вообще произвели на свет.
Должность клерка в отцовском офисе. С перспективой карьерного роста и постепенным постижением основ мастерства. Его кресло к тому моменту, когда он сам уже не сможет достойно выполнять свой служебный долг. Невеста из богатого семейства, проживающего на соседней улице. Собственные дети. Возможно, собака. Престижная марка авто. Престижная, но не слишком вычурная. Гипертонические кризы. Простатит. Язва желудка? Внуки. Единственная доступная радость – семейные торжества. Сын, занявший мое место в конторе…
«Хватит!» – завопила в моей голове память о будущем.
В этом мире, помимо семьи, не было ничего по-настоящему ценного для меня.
Кроме рассветов, пробивающихся прохладными розовыми лучами в окно моей спаленки. Ярких и пасмурных дней, наполненных бесконечным чудом познания природы. Закатов, особенно летних, полыхающих алым шелком на горизонте. Звездопадов, которых мы все так ждали августовскими вечерами, сидя на заднем крыльце, откуда открывался вид на необъятный небосклон. Что еще? Дельфины, увиденные однажды в журнале. Вкрадчивая, грациозная нежность домашней кошки. Радуга, выраставшая после дождя всегда на одном и том же месте, чуть поодаль опушки, над рекой. Много, много чего, не имеющего никакого отношения к человеческому миру, который теперь почему-то встал во главу угла.
И, конечно, кроме красок, которые можно нанести на холст, чтобы изобразить то драгоценное, присвоенное, украденное, позаимствованное, полученное в дар у самого Бога.
Я буду заниматься только этим. И заработаю много денег, потому что мои картины будут столь хороши, что каждый уважающий себя аристократ и нувориш Старого Света (по меньшей мере!) будет считать делом чести приобрести хотя бы одну из них.
Мои родители позволяли мне быть тем, кем мне хотелось быть. И не больше. Как бы я ни напрягал свою память и воображение, не могу нарисовать картинку пламенной веры в мой талант, изливающейся со стороны матери или отца. У меня всегда были лучшие наборы красок, и они с охотой оплачивали мои уроки, но за их добрыми улыбками таилась крадущаяся на цыпочках мысль: он сам разберется, что к чему. Он сам поймет, что на этом денег не заработать. Переиграет, перебродит, перебесится.
Их мировоззрение ничуть не мешало мне жить, но так и не отпустило. Будто липкие путы, извергнутые мохнатым пауком – оплетающие, вязкие, стесняющие движения: необходимость всегда и всюду доказывать право на свое существование. Долгое время, до тех пор, пока я не встретил Глэдис, в моей жизни не было ни одного человека, который выдал бы мне веру в мой талант авансом. И это притом что – непреложная истина! – дети являются источником надежд.
Нет, эти авансы раздавал я.
– Мама, папа, наш учитель рисования обещал показать мои работы своему знакомому, настоящему художнику из Лондона.
Так у меня появилась вторая комната в доме, отведенная под студию. И теперь я нередко путал ее со спальней, чему способствовал уютный синий диванчик, который я, ведомый своим странным вкусом, почему-то передвинул в самый центр пространства.
– Здравствуйте, Мистер Знакомый Настоящий Художник Из Лондона. Вот мои эскизы… Разве они не интересуют вас? Да, у меня уже была выставка в крупнейшем городе графства. Да, наш шериф немало поспособствовал этому.
Так у меня в кармане оказался контракт на участие в фестивале юниоров.
– Сэр… – (на ковре у директора школы). – Не соблаговолите ли Вы отпустить меня на две недели в этом семестре? Я должен участвовать в выставке… Нет, это не моя личная блажь. Да, это приглашение от Мистера Знакомого Настоящего Художника Из Лондона.
И, если уж я вернулся победителем, которого даже на радиостанциях объявили «воплощением волшебства юности, самым, пожалуй, ярким представителем нового поколения вундеркиндов» – то почему нельзя было просто посмотреть на мои картины? Неужели без поручительств и нужных знакомств они ничего не значили сами по себе?
А вот теперь перейдем к настоящему волшебству, объявленному в моей жизни Кем-то, куда более интересным и могущественным, нежели местечковые радиоведущие. Затрудняюсь сказать, что из этих двух маниакальных наваждений является наиболее веским определением моей натуры. Они переплелись в канве судьбы и бездонного мира психики, как змеи на кадуцее, и зелье сотворено из яда обеих. Итак, помимо живописи, я с младенчества освоил опасную, зыбкую и переливчатую науку сотворения снов и запредельных путешествий.
Впервые это произошло очень давно, в шестилетнем возрасте. Я помню, что провел насыщенный день, полный запахов трав и едва уловимого шелеста крыльев бабочек. Бегал по полянам все утро, вовремя взлетая над острыми камешками, норовившими изранить ступни, еще не привыкшие к земной поверхности. Дразнил ледяную воду в лесном ручье за домом, взбивая гибким прутом мириады хрустальных брызг. Пробовал уследить за беличьим хвостом, мелькавшим в дубовой листве. После обеда, когда за столом собиралась вся семья – даже наш строгий отец возвращался из конторы, чтобы не нарушать обычай и отдать частицу сдержанного тепла домочадцам – я отправился наверх, в свою комнату. Заведенными правилами мне полагалось поспать, чтобы затем продолжить беззаботное изучение мира. Других обязанностей, кроме добровольной помощи матери, к которой я испытывал сильную детскую привязанность, у меня пока не было.
Но я, как всегда, схитрил. Дождавшись пока смолкнут голоса внизу (мать и сестра разбредались по углам, чтобы заняться вышивкой, чтением и прочими тихими делами, требовавшими сосредоточения), выскользнул из кроватки и на цыпочках пробрался к своему столу, с поверхности которого никогда не исчезал лист бумаги, россыпь карандашей и тюбиков с краской. Мне хотелось запечатлеть что-нибудь самое яркое, самое неправдоподобное, и в то же время – истинное из пролетевшей половины дня. Лоснящийся испод тела бабочки, которых я особенно любил за их схожесть с клочком тонкой бумаги, покрытой радугой пастели; всплеск листвы, отраженный в капле воды, словно в изогнутой линзе; пламя беличьей шерсти, взметнувшееся на восток под порывом ветра.
Я обмакнул кисть в баночку с водой, сожалея, что не сменил ее заранее – как недовольно предупреждали меня родители, забывчивость и рассеянность в быту действительно остались со мной на всю жизнь – и набрал на ее шелковистый ворс густой оранжевой краски. Я уже знал, что мне не нужна вся белка – только хвост, брызжущий обжигающим весельем в прохладном мраке деревьев. У меня быстро стало получаться: к этому возрасту уже проявилась та самая, моя особая, врожденная техника, в которой даже яркие пятна красок меняли интенсивность, накал чувств и пронизывались штриховкой тени. Одной кисточкой, одним цветом я мог изрисовать все полотно так, что в нем не встречалось мазка, похожего на соседний. Позже, когда я довел свое умение до совершенства, критики подарили моему стилю прекрасное название – «светящийся бархат». Цвет и фактура моих картин и впрямь напоминает лоскут бархата, оставленный в ночи и озаренный неизвестным источником света, будь то свеча или звезды.
Я не заметил, как заснул, склонив голову на руки, хотя потусторонним чутьем ревнивого творца за полминуты до этого отодвинул к окну банку с водой, приобретшей охровый оттенок, и альбомный лист с глянцевыми, невысохшими всполохами краски. Настойчивый горячий луч послеполуденного солнца, бьющий в лоб через оконное стекло, знойное жужжание заблудившегося в этажах и форточках шмеля, да и сама поза, не предоставили мне возможности погрузиться в обычный глубокий сон, и я застрял где-то на полпути к темной синеве своего подсознания – в состоянии, называемом дремой. Будто дополнительной парой ушей, позаимствованной у какого-то сказочного зверя, я слышал все, что происходило в доме и в саду, в то время, как мой слух был обращен в причудливую, неясную полу-реальность сна.
Поначалу он не был даже цветным, напоминая старую фотографию, сепию с коричневатыми разводами и подпалинами. Я долго не мог определить его интерьер или пейзаж, пока вдруг явственно не ощутил постороннее присутствие. Что-то плохо осознаваемое, неуловимое, но имеющее плоть и дыхание, мелькало то в одном, то в другом углу моей временной вселенной. Легкий дискомфорт и сладкий тихий ужас в солнечном сплетении позволили понять, что сущность также находится и в том, настоящем мире, где на высоком стульчике, за столом у небольшого окна оставлено мое физическое тело. Оно шныряло по комнате, оставляя волны ветерка на плечах, шевеля волосы на затылке, вынюхивая и вычерчивая своим движением одному ему понятные знаки.
Страх с каждой секундой усиливался, и я, мечась между явью и сном, не зная, в какую сторону – и в какой мир! – мне стоит вглядеться пристальнее, чтобы обезопасить тело и душу, вынырнул на поверхность сознания, почти захлебываясь судорожными вдохами, как будто и впрямь поднимался к свету из глубин океана. Распахнув глаза, резко обернулся. Комната, не желая выдавать секреты, мгновенно приняла прежний вид, изгнав из себя чудовище, с которым наверняка уже заключила коварный договор. Я поднялся со стула и медленно, на дрожащих ногах, подкрался к кровати. В таком же замедленном темпе забрался под одеяло и, не моргая, затаив дыхание, не спускал глаз ни с одного дюйма своего реального мира. Все было тихо и спокойно, лишь где-то вдалеке позвякивал колокольчик уставшего от солнца племенного быка.
Паника быстро прошла: я обладал пусть не столь выраженной, как у других мальчишек, но необычной в своем проявлении отвагой. Это была смелость разума, дерзость исследователя ночных теней и замков с привидениями. Ни в детстве, ни в последующей жизни я не бравировал, не кричал о ней, не налетал на обидчиков с кулаками, но никогда не отступал перед лицом того, что осталось непонятым и не объясненным. Разум и анализаторские способности всегда были моей первой реакцией и главным оружием против неизведанного и пугающего. И сейчас я просто задумался над увиденным и прочувствованным.
Справляться с детскими страхами и непокоренными мирами помогало и то, что я никогда не подвергал сомнению собственную личность, переживания своей души. Космос фантазий, который взрослые с такой охотой всегда прощают несмышленым детям, был для меня реален – как и для остальных малышей. Но я уже в том возрасте обратил внимание на болезненную в своей неуклюжести очевидность: между моим восприятием и остальными сверстниками существовала незаметная и неизвестная никому пропасть, скрытая в наивном блеске глаз. Я был необыкновенно осознанным ребенком. Мать до сих пор жалуется, что на моем лице чаще появлялась гримаска неодобрения взрослых поступков и неуклюже сконструированного ими мира, нежели легкомысленного доверия к нему. И к тому, что возникало в моей голове, или диктовалось сердечным магнитом, я относился с предельной серьезностью, без всяких «как будто» и «понарошку».
Я, видите ли, был художником. С четырех лет я принял эту мысль о своем призвании, и для меня – пусть я еще и не выражал настроение такими словами – отвергать фантазию, мечту, случайно схваченный образ, было бы кощунством и предательством самого себя. Эта постоянная готовность верить и принимать позволила мне сделать неоспоримый вывод: сила, которую я почуял в своем коротком сне, может появиться вновь – если правильно повторить путь к ней. И тогда я смогу понять, что именно произошло, и может ли это стать для меня полезным. Может быть… я даже смогу это нарисовать?..
Открытие не заставило себя долго ждать. Огромная мощь детского намерения и любопытства в ту же ночь привела меня в похожее состояние. Играя и выполняя свои обязанности по дому в остаток дня, я непрестанно размышлял над случившимся, интуитивно дойдя до одного из самых крупных зерен ситуации: сон, в который я погрузился, сидя за столом, нельзя было назвать полноценным. А значит, именно этой половинчатости мне и необходимо добиться, чтобы проверить – действительно ли кто-то населяет соседний мир? И что там есть еще? И можно ли в этом сне выйти во двор, на луг, в лес, в соседний город, страну, на другую планету? В другое время?
«Стоп! – сказал я себе, – Сначала проверим, как это работает». Вот она, моя двойственность, о которой я, возможно, буду часто вспоминать: эмоциональность и холодность отхватили в моей личности ровно по половине территории, и не отдают друг другу ни пяди, ни цветка.3 Но без ложной скромности скажу – видимо, terra incognita4 моей души столь велика, что каждая половина кажется стороннему наблюдателю необъятной. Потому одним я представляюсь чересчур эмоциональным человеком, с которым трудно рассуждать о делах; другие же спорят с ними, с неприятным удивлением подмечая, что я до крайности рассудителен и до отвращения прагматичен. И только самые близкие знают, что я ранимый, чувственный, алчный и меркантильный стяжатель-фантазер. И моя расчетливость касается не только материального мира сделок и биржевых акций, но и заоблачных грез. Я на каждую из них поставил клеймо собственности, и не позволю другим мечтателям прикоснуться к ним без моего ведома.
Но вернемся к позднему летнему вечеру, когда усталость наконец-то позволила мне притихнуть в прохладной постели, под зазывный присвист ночных сверчков и в настоявшихся за день дурманах ближайших лугов. Мне каким-то образом удалось зафиксировать свое сознание в полудреме. Может быть, сейчас я путаю последовательность событий, и это далось мне не сразу, не в тот вечер, но началось все именно так. В какой-то момент я понял: несмотря на видимую погруженность в сон, я по-прежнему способен осознавать то, что происходит, и управлять собой. Или – частью себя?.. Я будто открыл глаза внутри сна и увидел собственную комнату – чуть искаженную в еще зыбкой дымке неосвоенного мира, но узнаваемую. Ее очертания и наполненность предметами приобрели мягкость подводного мира, и мое присутствие в ней ощущалось телесным и плавучим.
Никого не было. Ни одна посторонняя и потусторонняя сущность не вторгалась в мой сон. На глаза мне попалась форточка, и в голову пришла шальная мысль: а не прогуляться ли по улице? Какой она предстанет предо мной в этой новой реальности? Смогу ли я заглянуть в гости к своим друзьям и пошалить в вязкой темноте их домов? Усилием воли я совершил некий рывок, и мне показалось, что мое тело всплыло в воздух и точным движением было направлено к окну. Я обернулся. Мое тело… лежало на кровати! Я спал в своей кроватке! Но что тогда происходит здесь? Со мной? Это – и есть я? Или я остался лежать? Мысли серым суматошным роем ринулись в голову, и я с резкой досадой почувствовал, что меня неумолимо выносит на поверхность запредельного океана, в котором я оказался. Я выныривал из своего сна, жестоко и неминуемо, успев осознать, что нить рвется от тяжести понимания – точнее, наименования, данного мной происходящему: «Я – сплю». И я открыл глаза, в которые сразу хлынул теплый мрак реальной ночи.
Мне даже показалось, что какая-то часть меня наблюдает за этим процессом со стороны: маленькая человекоподобная форма сине-голубых оттенков, зависшая у окна моей спаленки, вдруг начала сворачиваться в спираль, теряя в ее витках свои очертания. Этот непонятный сгусток энергии стремительно взвился ввысь, словно его втянул в себя невидимый пылесос. И все, все вокруг – темнота, комната, окно, сама фактура и материя холста, на котором была написана эта картина – взорвалось и рассыпалось на мириады отдельных пазлов. И я одновременно лицезрел и безумное в своей скорости движение, и прекрасный момент, схваченный клеем времени: застывшие в пространстве осколки – в позициях причудливых, но выверенных с математической точностью вселенских формул.
Так я начал бесконечные упражнения в дисциплинах, которые волшебниками всего мира называются осознанными сновидениями и астральными путешествиями. Я этих взрослых определений не знал, и просто наслаждался увлекательной игрой сознания и души, постепенно укрепляясь в вере в наличие иных реальностей, кроме той, где существовало мое физическое тело. А почему бы и нет? Настроение, которое кристаллизовалось во мне под влиянием этих «прогулок», оставалось со мной на весь следующий день, формируя и пестуя его, помогая творить. Чуть позже я научился вылавливать из бесконечной матрешки потустороннего идеи для своих рисунков. А еще позже – уткнулся лбом в неоспоримую взаимосвязь ряда сюжетных линий, подсмотренных в Зазеркалье, и событий своего будущего. Иными словами, я стал использовать не только пространство, но и время для собственной выгоды (если вообще имеет смысл разделять эти понятия). Я не просто доверял снизошедшим на меня вещим снам, но сознательно отправлялся в интересующий меня промежуток времени, чтобы увидеть наиболее возможные варианты развития событий.
В следующем полусне я сумел выбраться из дома через форточку, попросту вылетев в нее. Затем научился гулять по родному городку, и действительно заглядывать в дома своих друзей, и даже разбил пару чашек в буфете у одного из них. Как мне показалось, последовал легкий шорох со стороны спальни родителей моего приятеля. Я быстро ретировался, опять использовав для этого окно: в моих снах они распахивались по малейшему дуновению мысли. Днем я попытался выяснить у друга, не произошло ли чего-нибудь странного у них на кухне. В силу своей искренности и веры в волшебство, я сформулировал вопрос слишком прямолинейно, и ответом мне был лишь недоуменно-настороженный взгляд, да безмолвный, необъявленный разрыв отношений с этим мальчишкой, сопровождаемый перешептыванием и смешками за моей спиной.
Тогда я получил еще один урок: дети быстро вырастают, и многие из них уже к семилетнему возрасту превращаются в рассудительных взрослых, не терпящих эльфовского инакомыслия.
Произошедшее отозвалось болью в сердце, и на несколько дней я погрузился в пучину недоверия к самому себе. Неизбежным следствием стала невозможность контролировать свои сны: едва направив волю к тонкому лучу слабого потустороннего свечения, я погружался в глубокий омут бессознательности, и просыпался только утром – бодрый, отдохнувший, но не помнящий ни одного блика или тени из прошедшей ночи. Феи не прощают безверия.
Долго я не выдержал. Очищение пришло со слезами на глазах. Я готов был смириться с предположением о собственной ненормальности и отверженности. Но то, что поселилось внутри, было важнее и придавало куда как больше сил, чем слащавое успокоение при мысли, что я похож на других и понят ими. Я помню, что сидел, прижавшись спиной к нагретому большому камню у кромки леса, обдумывая нечто большее, чем жизнь: Самого Себя. Мне было страшно, обидно, горько, но сквозь пелену этих чувств острым клинком вывинчивалась, пробуждалась добротная злость: я не обязан прислушиваться к чужому мнению, и нет ничего в жизнях других людей, что могло бы прельстить меня. Они лишены вкусовых ощущений, запаха, цвета. Игры моих сверстников словно списаны с одной и той же брошюры, цели всех взрослых отлиты на одном станке. Удивительно, как они еще не перегрызли друг другу глотки – ведь при такой одинаковости направления, им неминуемо не хватит места там, куда они все стремятся.
Приблизительно так я не думал, но чувствовал. Это сейчас взрослый Николас помогает маленькому Ники оформить поток отчаянных рыданий в стройные обвинительные формулы заклинаний и самозащиты. Тогда же это было чем-то большим, нежели психологизм. Чем-то, парящим между жизнью и смертью. Точкой отсчета моей настоящей судьбы: отвага, упрямство, последовательность, справедливость, готовность к борьбе за свою правду. Еще не увидав всех чудес, уготованных мне Богом на этом странном пути, похожем на дрожащую в полуденной солнечной пыли лесную тропинку, (или на нее же – во влажном ночном сумраке), я предчувствовал их несметные залежи, и не мог примириться с потерей.
Тогда я решил принять за аксиому необходимость скрывать свой внутренний мир от посторонних взглядов, скользких и лживых. Жизнь была благосклонна, но и невероятно жестока ко мне, быстро рассеяв по ветру малейшие иллюзии о природе человека. Уже ребенком я уяснил одну страшную истину: люди добры лишь до тех пор, пока твое сияние не упадет на них и не выявит шероховатости и несовершенства их собственной натуры. Ты можешь не заявлять о своем превосходстве, и даже смиренно склонять голову перед чужим опытом и талантом, но им достаточно видеть – и они не простят.
Далее, еще страшнее. Они способны завидовать не только тому, что уже удалось воплотить, но и твоим мечтам, если они окрыляют тебя и добавляют целебный эликсир счастья в твои вены. Они, конечно, не виноваты в этом – просто сильно изранены. Но ты не можешь исцелить всех, кто попадается на твоем пути. И, главное: их израненные души не означают, что ты не имеешь права быть собой.
В течение нескольких лет я учился лгать, в то время, как постижение тайных знаний и мира духов давалось мне гораздо проще и веселее. Я пытался спрятать от людей свои настоящие интересы, но это оказалось нелегко. Видите ли, чем дальше я уходил по своей волшебной дороге, тем более серым, неясным и пресным казался мне эскиз настоящего мира, оставленного за спиной. Можно укрыть свое сердце и душу, но как разыграть подлинный интерес к тому, что не является для тебя таковым? Нет, это было мне почти не под силу. Поэтому я довольно быстро прослыл странным и высокомерным мальчиком, сторонящимся житейской простоты и ее благословенных нечистот.
Истинным спасением стала живопись. Во-первых, талант оказался неплохим прикрытием: я мог официально носить ярлык «не от мира сего». Это моя вечная и совершенно лживая усмешка, адресованная всем, кто меня не слишком-то хорошо знает: может быть, я и люблю путешествовать по Зазеркалью, но ключи и драгоценности, которые ворую оттуда, напрямую использую в повседневности. Как любой маг темной масти, я привязан к течению жизни и необыкновенно алчен до всех ее проявлений.
Во-вторых, отныне рисовать для меня означало нечто большее, чем младенческое эмоциональное и плотское удовлетворение от прикосновения влажной кисти к листу бумаги (позже – холсту), и цветение образа на ее чистоте. Теперь это было средство выражения истины, которую я постигал. Дневник моей жизни. Собрание мудрости, о которой я, не дай Бог, могу ненароком забыть, на мгновение уверившись в превосходстве материи. Мой личный метод коммуникации, связующая нить между вселенными. Моя душа, мое сердце. Я.
Следующие открытия позволили мне еще глубже изучить скользкую ткань мира грез. Я не говорю о такой ерунде, доступной всем, как внезапное осознание, приходящее во сне в минуту опасности, воплощенной в отвратительном существе, или зубастой акуле, в падающем в пропасть поезде и прочих многочисленных неприятностях, которые поджидают нас там в еще большей степени, нежели в реальном мире. Все мы однажды спохватывались и приказывали себе: «Проснись, это сон!».
То же можно сказать и о наслаждении безнаказанностью полета, отчаянного прыжка с небоскреба – дабы почувствовать себя несоизмеримо большим, чем человек. Или о непристойных действиях с незнакомкой в общественном месте, бесстыдного обнажения на переполненной людьми улице – с целью достижения вполне определенного и донельзя земного физиологического состояния. Я так делал. Многие так делают.
А как, например, вам такое искусство: возвращение в один и тот же сон на протяжении долгого времени? О, за этот дар я особо благодарю Господа. Он подобен чутью географа, нюху капитана корабля, интуиции звездочета. Тропинки в тех мирах – словно обманчивые канаты, сотканные из света и провалов тьмы. Широкие дороги при ближайшем рассмотрении оказываются коварными вихрями Млечного Пути, обрывающимися в бездну абсолютного небытия. Можно скакать по каменной гряде через озеро Печали – но где гарантия, что очередной булыжник под ногами не окажется лысой головой прошлогоднего утопленника?
Этот дар стал залогом моего нынешнего счастливого безумия. Он раскрывался передо мной постепенно, и я отбрасывал в сторону грубую оберточную бумагу, добираясь до более тонких и прозрачных одежд. Сегодня я могу в пять секунд вернуться в любую точку Вселенной, случайно открытую мной в сновидениях. А когда-то все началось со смутной догадки, переросшей во внезапное озарение.
Однажды во сне я забрел в лес, спиной к которому стоял наш дом. Дабы проверить точность изображения, отыскал в нем одно из своих любимых деревьев – дуб с довольно большим дуплом, в котором еще пару лет назад я сам мог поместиться. Крученые корни, выпирающие из земли, как жилы из натруженных ног, позволяли дотянуться до этой норы, и ее темный провал заставил меня задуматься: а что, если…
Тут я позволю себе сделать отступление и пояснить: вполне возможно, что все знакомые мне абрисы, предметы и ощущения я не «находил», а создавал в новой реальности сам, проецируя их из своего сознания, уже знакомого с ними. Но это, согласитесь, было бы весьма скучным объяснением, в которое мне не очень-то хочется верить, ибо я, сколько ни стараюсь, не могу припомнить, где и когда подглядел столь нежные подробности своего любимого сна, как родимое пятно, украсившее цветком лилейное плечо, да пара родинок – последних указателей, оставленных Создателем уж совсем вблизи ворот рая.
Но мы оставили старый дуб в августовском лесу. Хорошенько подумав, я пошарил в кармане вдруг обнаруженных на себе джинсов, и вытянул оттуда пустую обертку жевательной резинки. Конечно, было бы неплохо вручить мятный подарок самому себе, но для метки годился и кусочек фольги. Скатав из него шарик, я аккуратно уложил его в удобную выемку на дне дупла – теперь ни космический ветер, ни мохнатые зеленые чудовища из глубин воображения не могли бы так легко найти мой секрет.
Кажется мне, или в следующие ночи я далеко не сразу вспомнил о своей задумке? Как бы то ни было, я затем отыскал дерево – кстати, погодные условия и густота ночного мрака всегда соответствовали «действительности». Запустив пятерню в опасный провал дупла (вообще-то, там могло оказаться что и кто угодно, как вы сами понимаете), я с восторгом нащупал колючую плоть серебристого комка. На какое-то время это место стало для меня главным тайником, в котором я, не слишком чистый на руку озорник, прятал свои маленькие драгоценности, позаимствованные или откровенно утащенные из чужих миров.
Рассказывая о детстве, я не могу пройти мимо еще одной удивительной находки. Я постараюсь придержать свое взрослое сознание и не давать ей точных определений, отраженных во множестве религий и учений – предостерегавших от нее, или же, наоборот, поощрявших. Вы можете сами составить необходимые вашим страхам суждения.
Однажды, успешно зависнув между явью и сном, и с удовлетворением почувствовав ладность и сработанность панели управления, имеющейся в моем мозгу, я хотел было направить свой астральный (ну вот, не удержался от терминологии) корабль в интересующий меня дом, в котором жила приглянувшаяся мне девочка. Как вдруг, с болезненным испугом и неприятным подвохом, меня выбросило на поверхность, и я резко распахнул глаза. Только что я висел над дорогой, ведущей меня к цели, но внезапно она скрылась из виду, загороженная невесть откуда взявшейся, со скоростью звука приблизившейся ко мне, беспощадной, бессмысленной, бездушной тварью с отвратительным лицом. Светлая картинка сменилась безобразным изображением, напугавшим меня. Это выглядело, как если бы кто-то просто сунулся к самому вашему носу, уставившись прямо в глаза. Тогда в памяти вспыхнула та дневная дрема, с которой и начался мой интерес к потустороннему.
Было это именно то существо, или какое-нибудь другое? Тогда это беспрестанно волновало меня – ребенка, решившего, что он столкнулся с настоящим врагом. Сейчас, как мы все понимаем, это уже не так важно.
Но я не мог отступить, какой бы силы страх не овладевал моим детским сердцем. Не мог позволить себе воспринимать эту тварь, как злобного сторожа, охранявшего от меня уже полюбившиеся тропинки, луга, леса и чудесные замки. Там, за его рожей, представлявшей омерзительную пародию на человеческое лицо, оставался мой мир. Выйти сражаться за него, заточив игрушечный меч? Тренироваться в стрельбе из лука? Попросить отца показать безошибочный боксерский удар? Все это означало бы панику. Я, как всегда, решил одолеть его упорством и молчаливым бесстрашием.
Вновь погрузившись в сон, я увидал его. На сей раз, неимоверным усилием воли, я удержался, вцепившись в тонкую ткань астрального света. Существо не исчезало, но и не причиняло мне вреда. Страх уходил, а вместе с ним преобразовывалась и личина неизведанного. Да, оно по-прежнему было недочеловеком, но угроза и безобразие словно смягчились в безумном взоре и искривленных чертах. И тогда я спросил его: «Кто ты?» Ухмыляющееся молчание запредельного было мне ответом. Я не отступал. «Зачем ты здесь?» Та же реакция. И тут включилась моя врожденная наглость. «Знаешь что, – заявил я, – мне нужно к Хельге, она новенькая в нашей школе. Веди меня, если уж загораживаешь путь!»
Следующее мгновение было совсем другим. Страшная личина исчезла, как по волшебству, словно распавшись на атомы – но из них соткалась новая реальность, и я стоял перед дверью в комнату, в которую так хотел попасть.
В течение всех этих лет я время от времени пользовался услугами странных и корыстолюбивых существ, сторожащих дорожки иных миров. Не всегда мне хватало сил, чтобы самому переместить себя на другой конец галактики или новый виток временной спирали, и тогда помогали они. Постепенно я разобрался в их повадках и стоимости услуг, но, несмотря на знакомство с христианской религиозной традицией, предпочитал не задумываться о последствиях. Долгие годы мне казалось, что я успешно справляюсь с их алчностью. Моя жизнь была под контролем, и пусть радость неизбежно сменилась обычной любовной горечью – я не замечал страшных симптомов, ведущих на прием к экзорцисту. И только в последние месяцы… Впрочем, об этом пока рано рассказывать. Я и так подозреваю каждого, кто прикоснется к моей тайне, изложенной здесь, в ханжестве и пособничеству инквизиции. Люди любят выискивать в других признаки болезни, ненормальности или одержимости, не подозревая об одном из самых главных секретов человеческого бытия: нас, самих по себе, чаще всего и не существует, а дух Святой стяжают только избранные. Это заставляет задуматься, не так ли?
Пожалуй, я на время приостановлю свой рассказ о постижении сновидческих вселенных. Этих драгоценностей уже хватит, чтобы оплатить дальнейший путь, а за остальными мы будем сворачивать на обочину по мере надобности. Здесь я могу добавить лишь то, что обычно входит в обязательный курс практической магии: несколько слов об искусстве намерения. Прекрасное состояние желания, сплетенного с уверенностью и бесстрашием. Готовность получить и потерять, не прикоснувшись. Умение жаждать и освобождаться от пут зависимости. Элементарная формула – «Хочу, значит, будет. Ибо достоин». Достоинство идет по разной стоимости – у каждого своя, и за все приходится платить. Но об этом не принято говорить в начальных классах столь популярной ныне Академии волшебства: иначе учиться в нее придут одни лишь злодеи и, как ни странно, атеисты.
Что такое «намерение», я случайно понял, когда несколько недель подряд мечтал перед сном о ярко-зеленом велосипеде, подмигнувшем мне хромированным звоночком из витрины местного магазина – и этого было достаточно, чтобы я влюбился. Через месяц родители, которым я, ведомый любопытством экспериментатора, ни словом ни обмолвился о своем желании, спросили меня во время обеда – не хочу ли я присоединиться к той огромной стае отважных мальчишек, что летят по улицам, взметая клубы пыли, на своих железных конях? С учетом, разумеется, того, что я буду делать это в стократ осторожнее. Я просиял глазами и молча кивнул, чтобы наверняка не спугнуть магию.
На следующий день отец уже учил меня кататься на велосипеде, придерживая сзади за кожаный круп седла, и однажды попросту отпустив. Я проехал в одиночестве двадцать метров, а потом сообразил, что не слышу шуршащих шагов позади. Оглянулся, и тотчас же свалился от удивления и испуга. Отец стоял поодаль и счастливо смеялся. С той поры я умел летать на этой чудесной машине детства, ловко поворачивая руль и чувствуя педали, как продолжение тела. Велосипедными прогулками по родному городу я не брезгую и по сей день, несмотря на уже упоминавшуюся коллекцию автомобилей.
Повзрослев, я интуитивно ощутил силу излучаемого мной намерения, и тесно переплел его с практикой сновидений. С каждым годом я достигал все больших успехов в контроле за своим сознанием и выстраивании сновидческой реальности. Я знал, что многие используют визуализацию, как метод достижения целей, но усовершенствовал ее, перенеся процесс в ткань управляемых сновидений. Во мне проявилось внутреннее знание, шепнувшее, что концентрат энергии, образуемый при воплощении желаемого во сне, многократно превосходит по мощи поле, создаваемое мозгом при простом сеансе целенаправленного мечтания. Но достичь таких высот было непросто. Хотя во мне живет стойкое убеждение: если бы подобные открытия произошли со мной во взрослом возрасте, было бы гораздо труднее научиться всему этому. Будучи ребенком, я воспринимал это обучение не как мучительную жажду тайных знаний и власти над жизнью – как это происходит со взрослым человеком, а как увлекательную игру, путешествие по другим мирам, вдруг обнаруженным мной.
На приступах созидательной полудремы мои странности не заканчивались. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы обнаружить несколько очевидностей: я словно носом чуял погоду на ближайшие дни; с моими врагами, в конце концов, приключалось что-нибудь до оторопи плохое; все, чего я желал человеку – сбывалось; я непонятно каким образом улавливал чужое настроение, и волны его в моем мозгу сворачивались в слова, которыми я мог описать состояние собеседника и даже случайного прохожего.
К счастью, мне не часто приходилось применять свои способности в качестве оружия, защищавшего меня от несовершенства мира, в котором я оказался – то ли по воле Бога, то ли по собственной глупости. Если что-нибудь из моих воспоминаний удачно ввернется в узор повествования, обещаю не забыть об этом. А пока довольно откровенных признаний – их и так уже достаточно, чтобы поставить меня в неловкую, но привычную ситуацию, заперев в клетке на всеобщем обозрении, как уродца из кунсткамеры.
3
Историческая отсылка к коронационным клятвам французских монархов, обещавших при вступлении на престол не уступать «ни пяди, ни цветка» в международных и государственных конфликтах.
4
Терра инкогнита (лат.) – неизвестная земля, неизведанная страна. На старинных географических картах так обозначались неисследованные части земной поверхности.