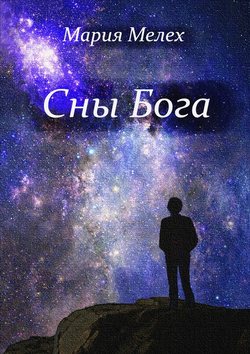Читать книгу Сны Бога. Мистическая драма - Мария Мелех - Страница 8
Предисновие
Глава 7
ОглавлениеЭто был дождливый, но теплый сентябрьский день. Почему-то почти все судьбоносные события в моей жизни, как сонные мухи липнут к осенним месяцам, с их перепадами настроений и коварством погоды. Может быть, это какая-то программа, заданная в детстве? Школьное расписание, обязывающее совершить рывок, усилие над волей, пока не выпал первый снег?
К Джереми меня привела Глэдис. «Э-ээ… То, что ты рисуешь – прекрасно, Ники, но у тебя совсем нет чутья на актуальность, ты уж прости, – сказала она мне багряным вечером, точным движением высекая огонь из золотой зажигалки и прикуривая тонкую сигарету, своей длиной грозившую поспорить с ее аристократическими пальцами. – Он лучший и самый востребованный в Лондоне. У него студия на Челси-сквер, газеты каждый уикенд смакуют его имя».
– Он постоянно скандалит? – ревнивой иронией я попытался остановить поток ее дифирамбов.
– И что с того? Зато все знают, как пишется его имя. Тебе бы не помешало немного обтесаться в его тусовке.
– Я должен буду мешать абсент с кокаином и участвовать в оргиях? Без этого не стать хорошим художником?
– Не провоцируй меня на глупости. Можно обойтись и без этого. Мы выработаем стратегию.
Моя подружка была страшно наивна, несмотря на деньги и влияние в провинциальном сообществе. Но это я сейчас строю из себя умудренного опытом пройдоху. Тогда же я с охотой поручил ее самонадеянности заботу о своем успехе, и с блаженной улыбкой на устах отдался во власть мечтам, припудренным ароматной (печенье, ваниль и чуть шоколада) крошкой. В конце концов, жизнь не могла ошибаться, главное было – не останавливать движение.
Вопреки здравому смыслу, наперекор всем полученным вскоре синякам и ссадинам, Глэдис сдержала обещание: у нее был план, и она показала европейской богеме то, что смогла слепить из меня. Горько признавать, но моя юность пришлась на время, когда талант без напора и готовности съесть два пуда дерьма ничего не значил. Сейчас все иначе, кто-нибудь мне подскажет?
Студия богемного бога находилась на пятом этаже одного из старинных зданий, несколько подкорректированного духом современности. А вот лифт не работал, что заставило меня тихо позлорадствовать. Но это было вымученное злорадство: полмили винтовой лестницы в сумраке, подцепленном виньетками запрещенных воскурений, измотали меня, не привычного к физическому напряжению. Глэдис же, напротив, хоть и пыхтела с каждым поворотом все громче, но глаза ее разгорались, будто работали не легкие, а мотор паровой машины. Наверное, она уже слышала рукоплескания публики моим творениям, и томные вздохи тощих дамочек, укутанных в тронутые модным тленом меха.
Узкий длинный коридор, застеленный красным персидским ковром, и я толкнул массивную дверь в студию, где обитал мой будущий мучитель.
Позже, много позже, уже совсем в другой жизни, Джереми обнимал меня своей крепкой рукой, другой заливая в себя лагер из высокого бокала, и раз за разом рассказывал, мешая силу с лаской и еще чем-то, въедливо ядовитым: «Помню, как ты вошел, малыш. Со своей дылдой, конечно. Я еще подумал: ха! Она сказала – ты художник? Какой, к черту, художник? Ты будешь моей любимой моделью! Какие глазки, какая кожа, а этот детский рот и пухлые щечки, – в этом месте он все время принимался хохотать, как полоумный. – Когда я узнал, что ты к тому моменту уже трахнул двух баб, долго не мог поверить. Я-то думал, ко мне спустился ангел-девственник! Не прими за комплимент, конечно: у меня к восемнадцати уже двадцать в койке перебывало».
С того момента все именно так и происходило: у Джереми словно был припасен гроссбух с ежедневными подсчетами – у кого сколько женщин, мальчиков, денег, автомобилей, апартаментов, интервью. Похоже, я стал какой-то занозой в его сердце. Но хочется предостеречь особо романтичных наблюдателей от неверной трактовки моих слов: у него весьма своеобразное представление о любви.
Цирковой клоун высшего уровня мастерства, он не слишком заботился о том, кому показывать шоу: годились все, кто был способен платить. Женщины, конечно, размягчались от его улыбки, как сливочное масло на солнцепеке. Деньги он любил настолько, что готов был нацепить любую маску, лишь бы она хорошо продавалась. Пожалуй, его жизнь стала для меня одним из лучших спектаклей, которые мне довелось увидеть – поучительным, фарсовым, непредсказуемым. Театр одного актера, гениального лицедея, слишком буквально воспринявшего древний постулат о непрекращающемся танце. Джереми от рождения был наделен редчайшим тайным знанием: жизнь не имеет смысла, поэтому можно делать все, что взбредет в голову – лишь бы вовремя скрыться от полиции. Я так и не смог уяснить это, оставшись в дураках. И по-прежнему считаю его самым большим преступлением игры с любовью.
Он на весь мир готов был кричать о своем разбитом сердце, лишь бы журналисты не забывали его имя. Когда я сбежал от него, он сплел огромную липкую сеть из тысячи намеков, подпуская их на светских вечеринках и в беседах с папарацци на парковых скамеечках. Он даже сочинил стихотворение обо мне, и с беззаботностью меланхоличной девы якобы случайно оставил его на прикроватной тумбочке – дожидаться, пока в утреннем одиночестве проснется и протрет глаза его следующий любовник.
И я попал в эту сеть. Я на всю жизнь был обеспечен тремя увлекательнейшими занятиями: доказывать самому себе, что я не безумец; доказывать всему миру, что я не идиот; и, наконец, доказывать содомитам всей Европы, что Николас Фламинг никогда не был «крошкой» Джереми Джойса. Последнее мне, похоже, так и не удастся сделать: я на днях слышал, что новой гей-иконой стала Венера Милосская.
Разве мог я предположить все это, когда, обернувшись на тяжелый скрип двери, он направился к нам уверенной походкой настоящего мачо? На тот краткий миг мое предубеждение и страхи рассеялись: у него была необыкновенная улыбка – идеальная, широкая, мальчишеская, озорная. Словно созданная для того, чтобы презентовать его: посмотрите, какой я открытый, дружелюбный, с легкой горчинкой, спрятанной в глубине прозрачно-карих глаз. Он был соткан из красок теплой осени: золото, ржавчина, розовость, капучино, шоколад.
– Ты Николас? А ты Глэдис? – опередил он нас своим панибратским гостеприимством. – Ты молодец, что позвонила.
– Хочешь в мою студию? – он пристально посмотрел на меня. – Если ты действительно так талантлив, как я слышал, это будет даже бесплатно.
И зашелся хриплым негромким смехом рисованного медведя.
И теплый образ рухнул. Тогда впервые, но он рушился еще тысячи раз. Удивительно, как он умудрялся вновь и вновь напускать свои чары? Перед глазами все еще стояла обволакивающая обаянием картинка в стиле кантри (мшистая изгородь, угасающее банджо, зачинающийся закат, сильный мужчина в клетчатой рубашке – он мог быть вашим отцом), но в душе зазвенел холодный клинок. «Как он смеет? Что он о себе возомнил? У меня уже три выставки, и весьма успешных!»
Каким деревенским простачком я был! У этого парня за плечами уже сотня презентаций, и какое дело Вселенной до того, что я считал его компилятивную фото-живопись идеальной иллюстрацией к энциклопедической статье «Коммерция из ничего». Его кости были схвачены тем же клеем, что и вечная цепь всемирной корпорации «Купи-Продай».
– Покажи картины, – непривычно резко бросила мне Глэдис. Я тотчас почувствовал себя малолеткой, которую чересчур заботливая мамаша привела на кастинг к режиссеру порно. Развернул несколько свитков, прихваченных с собой. Это были наброски – графитом, кое-где акварелью, парочка пастельных работ.
– Хм, – сказал он и кинул на меня короткий взгляд исподлобья, – ты действительно умеешь это делать. Какая интересная метода у тебя с цветом…
Он приблизил лицо почти вплотную к полотну, жадно прищурившись.
– Что за эффект? Как ты это делаешь? Наложение цветов? Откуда этот свет?
– Да… – нехотя ответил я, – делаю несколько слоев, а границу убираю.
К слову, уже пять минут, как мне разонравилась идея сотрудничества с этим рыжеволосым гигантом художественной попсы.
– Да я понимаю, что слои! – отмахнулся он с выразительным рыком и рывком – яростно, деловито. Слишком по-свойски, мгновенно разрушая мои бастионы и вымарывая планы отступления. – Но как ты собираешь краски? В чем принцип?
– Я не замечал принципа, – буркнул я, не собираясь сдаваться. – Я делаю это интуитивно.
Я отвечал с предельной честностью. Откуда мне было знать в тот день, что вся его знаменитая импульсивность, телесность, напористость с оттенком доступности – не больше, чем легко продаваемая маска, которую готов приобрести каждый новичок вроде меня? Это было сотни раз опробовано и приносило результаты. Что он брал взамен? Чужие секреты, конечно же.
Но за мной присматривали очень зоркие ангелы, лишившие зрения меня самого. Я действительно понятия не имел, как у меня получается так смешивать краски. Я просто чуял, какая капля должна следующей упасть на холст – грозовая, медовая, или от соуса с паприкой. Поэтому мне нечего было сказать Джереми.
– Ладно… – помолчав, решил он, – у меня есть кое-какие мыслишки насчет твоей мазни, Николас. Выбирай зал побезлюднее, или какой приглянется. Мы открыты круглосуточно.
(Он опять хохотнул).
– Дубликат ключей возьмешь у портье внизу. Встретимся завтра, здесь же, и обсудим.
Я так и не понял, что мы должны обсуждать, и что вообще происходит. У меня уже был свой план, без скандалов, без грохочущих звездопадов, но с ровной, пусть и каменистой, дорожкой к успеху и – что немаловажно! – порядочности. Конечно, Глэдис он не нравился. И я оказался в ловушке: мне не приходилось жаловаться – ведь она, в отличие от Пэм, все свои силы направляла на мою карьеру. Дома, на каминной полке лежали приглашения от владельцев двух залов, а этот тип вдруг вздумал одним щелчком развернуть русло моей жизни? «Нет, не пойдет», – сказал я себе. Пока не увидел небольшой, но великолепно освещенный зал, отданный в мое распоряжение.
Этот Джереми был сам дьявол. Он воплощал мои тайные желания прямо из воздуха. Он плел сети – с неведомой мне целью. От него пахло роскошью и уверенностью – как и от Глэдис. И я сдался. Мне очень хотелось попробовать этой сладости, правда.
Разговор, который состоялся на следующий вечер, отправил мои прошлые задумки в корзину для мусора и расчертил будущее четкими графами.
– Ты хорошо рисуешь, но это еще не все. Эх, да ладно… – сказал он мне, – ты почти гениально рисуешь. Но мир перегружен, пойми. Кризисы, инфляция, гонки вооружений, сексуальная революция, политика дуализма… Ты хоть понимаешь, о чем я? Мир не хочет тащить на себе еще и тяжесть чьей-то гениальности. Мир не желает думать. Он собирается наслаждаться. Как у тебя с этим? Ты умеешь удовлетворять гомо сапиенс?
Я вытаращил на него глаза. Он произнес это с таким переливчатым смешком, что я уж было подумал – смысл ускользнул от меня. Затем я научился быть всегда начеку: самые невинные слова этого типа могли стать началом нечистого пути, а грубые шутки ничего не значили, тут же обрываясь камнем в пропасть забвения.
– Кто, кроме пациентов дома престарелых и матрон, потерявших надежду найти любовника, пойдет на твои выставки, как бы ни сиял твой изумительный цвет? Ну, если только школьников загонят по воспитательной программе, позаимствованной у Третьего Рейха. Сейчас в моде междисциплинарный подход, малыш.
(С этого момента он так и звал меня, не поинтересовавшись, как мне это на вкус).
– У выставки должна быть презентация, а у презентации – актуальность, – поучал он меня, расхаживая по студии, и его руки чертили в воздухе такие же размашистые шаги. – Актуальность рождается из злободневности. Но мы уже решили, что нам нужна легкость. Поэтому пусть злободневность носит имя индустрии развлечений.
– Открытия центров, кинозалов, театров, супермаркетов, ресторанов, фабрик, железнодорожных путей… – я сидел, разинув рот, и внимал потоку его сознания, – вот наша золотая жила. Ты слышал про инсталляции?
– Но я не хочу фабрики и железные дороги… – робко мяукнул я, в надежде, что мне удастся остановить полет его мысли. Удалось.
– Почему? – он и впрямь замер и внимательно посмотрел на меня.
– Фабрики, железные дороги… Звучит как-то громоздко. И я не хочу рисовать трубы и шпалы.
– Ты ровным счетом идиот, – спокойно резюмировал он и продолжил:
– Инсталляции. Ландшафтные экспозиции. Промышленный и урбанистический фэн-шуй…
– Постой, Джереми! – в отчаянии выкрикнул я, – Стоп!
Он вперился взглядом, выжидая. Впервые мне захотелось быть практичным. Вникнуть в суть дела. У меня было ощущение, что я присутствую на конференции экономистов и инженеров космического кораблестроения, и если срочно что-то не предприму, они договорятся и отправят меня со всей семьей на Марс.
– Как это выглядит на деле, хотел бы я знать? Вот.
– Молодец, – слегка удивленно похвалил он, – начинаешь учиться. Как выглядит? Приходишь ранней весной в Гайд-парк, и оборачиваешь сиреневой тканью стволы черешен.
– Красиво. Но, Боже мой, зачем? Я рисую! Я художник, а не портной!
– Художник, – проворчал он, – хорошо. А в тени деревьев прячешь свои картины. Подгоняешь все к тому моменту, как почки набухнут, и приглашаешь зажравшихся лондонцев встретить весну в японо-саксонском стиле. Годится?
– Хм… Звучит прелестно. Но я уверен, что за этой красивостью прячется множество трудностей. Организационные вопросы, безопасность полотен, состав публики. Вообще-то, я предполагал, что твоя группа выставляется в классических залах.
– Так и есть, – буркнул он, – а что нам мешает нарушить эти правила? Мне надоело, что пресса вспоминает о художниках, лишь когда кто-нибудь из них в наркотическом угаре выпадет из окна. Считай это моим признанием. В прошлые века не было никаких средств связи, кроме почтовой повозки и голубей, но имена мастеров гремели по всему Старому Свету. А что сейчас? Американец узнает о событии спустя полчаса, как оно произошло где-нибудь в Индии, а сопоставить мою рожу с моей же картиной – не сможет. Выставка – это грандиозно, но автор остается за кадром.
– Нет-нет, – запротестовал я, – публика знает имена гениев, ты не прав.
– Гениев? – Джереми захохотал. – Послал Бог младенца! Я так понимаю, ты себя гением считаешь?
Он приблизился ко мне и с неожиданной злостью ухватился за горловину моего пуловера. Вся его растоптанная самооценка выплеснула свой застоявшийся яд в этом жесте.
– Современные гении, малыш, пейзажами не балуются. Прелестные очи и розовые перси не рисуют. Романтикой зрителя не потчуют. Для того, чтобы называться гением, надо иметь внутри боль – но и этого недостаточно! Надо уметь эту боль передать на холсте. Темные, режущие нутро образы, подсмотренные в Аду. Их не подделаешь, не выдумаешь, любая натужность будет очевидной. У тебя есть внутри боль?
Боли у меня не было – это я вынужденно признал. Впрочем, той боли, о которой так внезапно принялся рассуждать Джерри, у меня нет и сейчас. Она никогда не была частью моей натуры, диапазон которой сужается от безумной радости к пронзительной грусти, но не далее.
– Ты сам сказал, что я гениально рисую, – начал я, но он сразу же меня перебил.
– Гениальность техники еще не означает гениального замысла. Я, конечно, понимаю, что тебе всего двадцать, но твоя наивность превосходит даже твое деревенское происхождение.
Упс! Еще одна колкость, которая войдет в его повседневный репертуар. Каждый раз, как только ко мне подходил кто-то – та самая дама в мехах, о которой мечтала и одновременно боялась Глэдис, пройдоха журналист, хитроумный коллекционер – и я начинал распинаться о младенчестве и чистых истоках своего дара, Джереми вкручивался в мой сказочный мир, как сверло дантиста, и вспарывал ладный замысел язвительным замечанием, спрятанным в обертку случайной ремарки. «Да-да, талант Николаса вызрел в заливных лугах, на свежем деревенском воздухе».
– Мы должны сделать что-то новое, – упрямо твердил он. – Я недавно был в одном прелестнейшем ресторанчике во Флоренции. Сидел за столиком прямо под собственной картиной. Видимо, хозяин приобрел ее на каком-нибудь аукционе. Узнав, что я заказал Sassicaia7 шестьдесят восьмого, он самолично принес бутыль и, увидев мой заинтересованный взгляд, принялся петь, как он понимает и чувствует это полотно. Да еще и наплел тысячу и одну притчу обо мне самом. Я, конечно, спустил его на землю – признаюсь, очень резко, но все это было невыносимо. Наши таланты не должны оставаться обезличенными, Ники. Я хочу, чтобы они были обличены, понимаешь? Мы смогли бы заработать в сотни раз больше, но для этого надо рассеяться по миру, как назойливый вирус. Хватит загонять себя в золоченые рамы. Я лучше распишу фресками детское кафе, но при этом каждый житель города будет знать, кто это сделал.
– Боже мой, – простонал я, – Джереми, я понимаю все, что ты говоришь. И это резонно. Но я всегда был художником, а не декоратором.
Он опять не дал мне договорить. Ярость вскипала в нем, как лава в жерле древнего вулкана. Он и сам был похож на этого мифического героя: к краскам его образа и сумрачному абрису плеч больше подошла бы наковальня и вызывающе огромный молот в натруженных руках.8
– Декоратором? Так ты это называешь? Думаешь, это не стоит труда и таланта? Ты, небось, из тех, кому полгода нужны, чтобы вычерпать хилое вдохновение из райских кущ, да создать что-нибудь? Я не буду ждать, пока ты найдешь полезные ископаемые в своем носу, понял? Мне нужно быстрое развитие и непрерывное движение. Ты узколобый болван, если считаешь, что нужен кому-нибудь со слезливыми пейзажами и намеками на любовную драму.
Да, я вынужден с ним согласиться. Сейчас, спустя тринадцать лет. Я во многом косен от рождения, по какому-то злому кармическому закону. Джерри дышит только идеей денег и славы, но ради этого он убедит жителей Земли, Венеры и Марса, что существует тайная, десятая планета Солнечной системы. Я же знаю об этой планете наверняка и заранее, как и о двадцати других – но посмей пикнуть об этом хотя бы во сне, буду высмеян всем человечеством. Моя косность не позволяет мне найти искрометные методы убеждения и вывести звездные формулы.
Признаться, я был напуган волнами эмоций, которые извергал на меня этот скандально известный тип. Он представлял собой все, чего я сознательно сторонился, пытаясь укрыться в нафталиновых миражах о профессии художника. Начав работать с ним и его командой, я впервые осознал, что должен был родиться на полтора столетия раньше. Мне хотелось встречать росистые рассветы с кистью в руках – и надо отметить, у меня это неплохо получалось до того времени. И я вовсе не был ханжой, и всегда с жадностью окунался в тягучие воды своей теневой стороны: именно так я видел подлунную любовь, нередко позволяя себе игры с бездной. Но… И это было романтикой. Из всего я иссекал красоту, во всем искал проявления гармонии. И никогда не мог выбраться за пределы зеркального круга чувств и эмоций, носящих любовные оттенки.
А вот для чего это делал Джереми?
Он так страшился жизни, что несся по ней галопом, пожирая и втягивая алчным ртом все, что попадалось на его пути. Уже тогда, в первые дни общения с ним, я подумал, что однажды кто-то украл у него знание о том, что его жизнь не случайна и может принести кому-нибудь пользу. И, уверовав в бессмысленность бытия, он запретил себе останавливаться, чтобы не быть поглощенным тишиной, в которой вдруг раздастся гомон бесконечных вопросов, роящихся в его голове. В общем-то, в этом он мало отличался от большинства людей – кроме того, что все плотское, низменное, эгоистичное, не могло существовать в нем иначе, как в избытке, взахлеб и вперехлест. Не душа его просила ощущений – они нужны были ему, чтобы не слышать ее голос.
– Николас, – он опустился на корточки перед диваном, на котором я сидел, и мое официальное имя в сочетании с его жестом оттеняли друг друга, как вечерний сумрак, пронзенный острым запахом табака, и белое девичье платье. Я всего лишь успел отложить это впечатление в копилку сюжетов, а он уже знал продолжение:
– Ты будешь рисовать, как захочешь. Я тебе обещаю. У тебя будет студия, материалы, натурщицы. Мои связи и мое прошлое – к твоим услугам. Но позволь пригласить тебя в нашу совместную работу. Давай сделаем это. Ты слишком талантлив, я не хочу упустить такой шанс. Я чую успех, это словно ток крови под кожей. Понимаешь ты? Я вижу, вижу это. Вдвоем мы с тобой сможем больше, чем порознь. Я предлагаю добиться всего – славы, денег, шума вокруг нас. Чем выше мы вознесемся, тем виднее будут людям твои картины.
Вся эта дребедень, его сладкие слова – они ничего не значили. Он так никогда и не узнал, что я встрепенулся, услышав только это: я вижу. И здесь взвилась к иллюзии света моя давняя боль, наивное отчаяние и бесконечное стремление найти того, кто поймет, как я чувствую этот мир. Еще одну сороконожку, инопланетного монстра, передвигающегося на ощупь, изучающего тропу нервными мясистыми усиками – как угодно, но такого же, как я.
Мы приступили уже на следующий день. Глупо было предполагать, что паук заманивал меня в пустой угол – сеть уже была сплетена, не хватало лишь части узора, вытянутой из моих жил. Слава Всевышнему, начали мы красиво. Я бы не перенес, если бы первой выставкой, учиненной нами, стал набор натюрмортов к открытию супермаркета. Но Джереми каким-то чудом урвал право росписи зала торжественных собраний при одном из лондонских соборов. Трудно изобразить траекторию мысли, приведшей чопорных духовных лиц к идее тесного контакта с публикой, но замысел, который они пытались донести до общественности, заключался в том, чтобы позволить «новомодным» художникам предъявить на их строгий суд свои представления о Боге.
«Это вроде как проблема бездуховности нынешней молодежи, – пояснил мой напарник. – На нас возложена серьезная миссия, малыш. Мы можем оправдать в глазах этих полузадушенных викариев парочку поколений. Как тебе?». И он удалился в свою мастерскую, гордо вознеся нос, похожий на картофелину, состроив постную мину и закинув на плечо футляр с кистями, будто крест. Я не удержался от смешка.
Правду сказать, я опасался за собственные представления о Боге, которых от меня ждал пропахший известью зал. Мое восприятие христианства не выходило за пределы распятий и молитвенников, атрибутов церковных служб, куда меня загоняли – скорее, по семейной традиции, нежели по искреннему волеизъявлению. Христом я восхищался и честно признавал, что мне его подвиг кажется непосильным. Если говорить еще более хлестко и беспощадно (по отношению к себе, разумеется) – я предпочитал держаться от него в стороне, хотя внушенный в детстве символ веры засел в подкорке каменной аксиомой. И пусть критичный юный исследователь во мне и заявлял, что сие есть беспомощная человечья интерпретация утерянных и неотличимых от дымки над горизонтом фактов, но чувство долга и обязательства оправдать надежды этого ушедшего неизвестно куда героя, скребло по ткани души. Положа руку на сердце, ощущение было не очень приятным. Потому я испуганно замер перед необходимостью воплотить его в цвете.
Но Джереми сказал: «Не бойся». Несмотря на продажность, он умел время от времени убеждать в своем таланте. Из тех сотен и сотен полотен, которые он начал, набросал или создал при мне, пара десятков действительно пробирала дрожью до костного мозга. «Долго не думаем. Рисуем ангелов и апостолов, – решил он. – Давай-ка обманем их и похерим вековую пастораль. Холод, пронзительность, жесткость – наша концепция».
Мы приберегли эгоцентризм и самодостаточность до полноценной выставки, и на этом рекламном подиуме отработали в одном стиле. Приглядевшись, уже к концу третьего дня я бескомпромиссно понял, что наши «холод, пронзительность и жесткость» подозрительно напоминают штрихи Эль Греко. Джереми, недолго думая, объявил основной цвет неправдоподобно синим и леденяще голубым – и сходство вроде бы пропало. Я старался не всматриваться – рисовал с открытыми глазами, но при встрече с советом попечителей их зажмуривал.
Таких отблесков и воплощенных духов ушедших мастеров в наших триумфах перебывало немало. Утешала лишь правота Джереми, рассуждающего о том, что истинное вдохновение можно оставить для выставок, а выполнение проектов на заказ от подсматривания за другими не испортится.
На удивление, все прошло благополучно. На церемонию открытия слетелись все местные мухи и несколько представителей более крупных классов насекомых, которым это полагалось по чину. Нас запомнили, как выразителей чаяний и надежд на собственное спасение, делегированных от падшей молодежи. Я плохо улавливал смысл помпезных речей, но мой коллега перевел мне их после: «Нам очень жаль, что мы так мало внимания уделяем нашей духовности. Теперь мы раскаялись и трудились в поте лица, дабы избежать Геенны Огненной». И добавил: «Ты так мило хлопал глазами, что чуть не разочаровал любителей жареного. В следующий раз, если нам придется разыгрывать кающихся грешников, я напою тебя накануне, чтобы твоя погибшая душа выглядела правдоподобнее».
Приблизительно так все начиналось, и судьба сразу явила мне портрет Джереми, вполне сходный с оригиналом. Жаль только, что я уже носил розовые очки: жизнь баловала меня. Я привык к Глэдис и ее роскоши – они стали неотъемлемой частью повседневности. Жена не щадила денег, вкладывая их в мой талант, имидж и просто развлечения. Теперь у меня появилась и мастерская в богемном районе Лондона. А после «духовного опыта» собственной рекламы – мушки перед глазами, которые я не успел вовремя закрыть, когда жадные фотовспышки первого интервью ослепили меня.
За три года мытарств по землям славы и денег, мы размалевали все кафе, школы, здания муниципалитета и библиотек в соседних галактиках. Мы участвовали в каких-то невозможных акциях, спасая неизвестные не только мне, но и науке виды животных и людей. Сотворили декорации к пяти спектаклям, среди которых были «Ромео и Джульетта», «Трехгрошовая опера» и еще что-то, своей конфигурацией напоминавшее хоботы слонов и клубки змей из Кама Сутры – я предпочел деликатно отвернуться. Как и обещал Джерри, мы зачем-то устраивали инсталляции в парках, лесах и на автотрассах. Их смысл всегда ускользал от меня, отчего я чувствовал себя полнейшим идиотом, не в силах осознать, почему поляна перед Оксфордским университетом должна приобрести вид австралийской зебры. Все это было как-то связано с банковскими счетами, заказчиками и состоянием общественного мнения. Впрочем, когда я видел прелестную колонку цифр, предъявляемую мне служащим Мидленд-Банка, мне становилось все равно и… Нет, даже больше: я был очень благодарен Джереми за то, что он сам все придумывает и решает. Тем более что за это время мы все-таки успели создать шесть настоящих выставок – в просторных галереях, престижных залах, с дальнейшей экспозицией в Европе.
Довольно быстро стали обнаруживаться всякие досадные мелочи. Оказалось, запах денег столь сильно манит моего коллегу, что он начинает отчаянно, безобразно торопиться, и готов представить на общественный суд самый что ни на есть непропеченный товар. Он был скор, как болид, и пока я с вдумчивой медлительностью выверял свою quantum satis9 в цвете и пропорциях, мистер Джойс, гроза слабохарактерных дамочек, махал кистью так, что брызги во все стороны летели. Но – еще одно рекламное чудо! – его мазня воспринималась критиками как высокохудожественный замысел, если не сказать больше – умысел.
И каково же было мое возмущение, когда я таки пронюхал, что сей знаток человеческой психики ненавязчиво подбросил публике идею вечной борьбы противоположностей, воплощенной в наших стилистических приемах – и отныне на мой талант и старание и на его бездарность и нетерпение смотрели, как на неразлучные составляющие одного целого. Даже хуже: моя методичность и гармония на его взрывном фоне воспринимались как академичность рядом с импрессионизмом. Вот до чего дошло!
Чтобы не выглядеть старомодно, мне пришлось подыграть ему. И теперь, когда мы стояли рядом и наши тени сливались, все знали: так было задумано. Мы стали модными. Идея творческого взаимодействия противоположностей постепенно вышла за рамки лондонской художественной среды и заполонила собой все псевдо-культурное пространство. Пророчества Джереми сбывались: оказывается, даже столь мирную, хоть и отдающую гнильцой профессию, как художник, можно сделать шумной и узнаваемой.
7
Сассикайя – знаменитое итальянское вино, производящееся в Тоскане с 1968 года. В 1974 году шестилетнее Sassicaia неожиданно одержало победу над собранием элитных вин Франции на дегустации винного журнала «Декантер». С этого момента и началась его слава. Именно это вино заказал Джереми.
8
Вулкан (лат. Vulcanus) – бог огня и покровитель кузнечного ремесла в древнеримской мифологии. Сын Юпитера и Юноны.
9
В переводе с латинского – «сколько потребуется», «по вкусу».