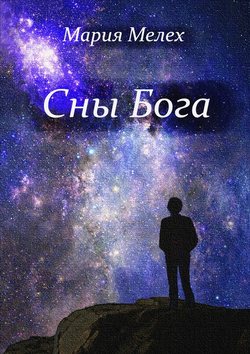Читать книгу Сны Бога. Мистическая драма - Мария Мелех - Страница 3
Предисновие
Глава 2
ОглавлениеВ Милане дождит, что совершенно неудивительно для этого места и времени года. Вторя небесным струям, я отпускаю мысли течь вместе с ними, и позволяю себе не вникать в подробности и суть переговоров с полным, претенциозным итальянцем. Порой я только вижу, как шлепают его влажные красные губы, и в воздухе мелькает колесо жестов – а еще говорят, что мы предвзято относимся к иностранцам. В конце концов, у меня есть верная пастушка Дорис – пусть выполняет свою работу.
Краткое содержание его пафосных грез я улавливаю сразу: речь идет о какой-то крупной частной школе, и наш визави то ли ее директор, то ли заботливый отец одной из учениц. Близится выпускной бал, и его – ввиду некой особенной акустики (итальянцы, опять-таки!) – решили устроить в просторном, но заброшенном зале, которому требовалось нанести должный лоск. В моем распоряжении была целая вечность: полгода. Талантливый гордец во мне надменно усмехнулся: за это время я был способен сотворить мир, не то что паршивые декорации для дочерей местных воротил. Правда, мне уже с первых фраз не очень нравятся его идеи, в которые я все же вникаю под вкус традиционной пасты с томатным соусом в милом красно-зеленом ресторане (Рождество до сих пор не оставляет линию моей жизни). Заносчивый делец, видать, никогда не имел дела с художниками – хотя я уверен, что коллекции полотен в его особняке позавидовал бы любой знаток. «Мне необходимо посмотреть твой хваленый зал, болтун», – думаю я, но вслух говорю: «Когда вам будет удобно показать мне помещение?»
И вот мы уже едем на окраину города, где как-то совершенно внезапно, без предупреждения, притормаживаем в самом центре холодного тумана. Школа располагается в нескольких монастырских зданиях, раскинувшихся на каменистой террасе на берегу Ламбро. Территория монастыря обнесена традиционной оградой, за которой любопытным путешественникам видны кроны богатого и плодовитого сада – в этом я вас уверяю, как профессиональный художник, недовольный январем. Мы входим внутрь, и на меня сразу спускаются воспоминания об отроческих годах, проведенных в подобном заведении, откуда маленькие дарования вроде меня могли вырваться только на уикенд и каникулы. Вероятно, летом здесь также сходила с небес ночная мгла, дорожки в саду завивались причудливыми лабиринтами, а густые заросли перевоплощались в дрожащих от плотоядной алчности чудовищ, легкое прикосновение к которым грозило исчезновением в глубинах неизведанного. Не знаю, как обстояло дело с маленькими католичками, запертыми в сие помпезное заведение, но наши смятенные души эти сумрачные метаморфозы, как помнится, не удерживали от ночных прогулок – в паре, а то и в романтическом одиночестве.
Когда я стал довольно влиятельным и богатым человеком, то, забавы ради, попросил разрешения заглянуть в школярские летописи своего детства. Кажется, я пытался найти очередную дозу вдохновения в них – это безобиднее, чем повторять привычные экзерсисы с вытяжками из мексиканских трав. О, там значилось все разнообразие младенческих прегрешений: и слезы на скамье у лунного пруда, с томиком французских стихов в руках, и ухарские прыжки в воду, сопровождаемые истошными воплями ночных жаб, и череда первых поцелуев. И даже весьма предсказуемые темные обряды, с прочитанными задом наперед латинскими молитвами, и с обязательным присутствием жалкой стайки трепещущих подростков в плащах с капюшонами, согнанными туда не то любопытством, не то страхом перед своим фанатичным вожаком.
Моей фамилии не было нигде, хоть я и участвовал во всех этих безобразиях – по крайней мере, их влажные ночные ароматы до сих пор стоят у меня в носу. «Ты был таким тихим и благоразумным мальчиком, Николас», – умильно прошептала моя постаревшая учительница.
Откуда же я все это помню?
Мы направляемся в замкнутый со всех сторон двор и входим в красивую галерею с острыми готическими сводами. Она кажется мне смутно знакомой, и я чуть отстаю от компании, внимательно оглядываясь по сторонам. Вот и кустистые, размашистые цветы в мраморных вазонах уже где-то встречались на моем жизненном пути. Дежавю? Мой мозг слишком активен и ежеминутно порождает такое количество образов, что спустя неделю я уже не могу вспомнить – было это на самом деле или приснилось, а то и вовсе родилось в вольной фантазии?
– Ники? – Дорис оборачивается, поджидая меня, как мать своего ребенка. Я покорно прибавляю шаг. Когда у тебя на поясе ключи от сотен миров, трудно управляться с реальностью. Поэтому я так легко доверяю указателям и диспетчерскому эхо своих земных проводников. У меня просто нет другого выбора.
…Зал огромный. У меня дух захватывает от размаха задумок, которые гудящим стоглавым роем ринулись в мои ослепленные масштабами глаза. Тридцать метров высоты, около ста пятидесяти в длину. Средневековый, прямоугольной формы – видимо, здесь когда-то был собор. Директор подтверждает мои догадки: во времена Муссолини, на волне передела собственности, храм лишили святынь, а поздние владельцы не тратили средства на восстановление справедливости. Тем более, что провинциальное священство не просило о ней, довольствуясь несколькими десятками действующих церквей в округе. Дворец оставили для проведения всевозможных торжеств.
Мне не требуется обходить все помещение, чтобы понять его характер. Достаточно нескольких взглядов: ввысь, вперед, и два – по диагонали. И, конечно же, прикосновения к ребристому камню спускающегося в ладонь свода. Но это мои личные секреты, я не могу тратить время на объяснение механизмов. Пожалуй, эмпаты поймут меня и по намекам. Это нечто вроде разворачивающегося перед глазами свитка, бабочки, выкарабкивающейся из кокона. Каждая вещь жаждет превращения и, прежде чем начать колдовать, лучше бы спросить у нее, во что она желает быть обращенной.
Но у этого палаццо непомерные амбиции. Возможно, их заразу оставили в каменном рисунке творцы мрачного великолепия; или же он сам подслушал грезы людей, приходящих сюда, а затем сплел из них кружево своих мечтаний. Теряя окончания фраз и захлебываясь в почти сбывшихся предвкушениях, он оглушает меня потоком своих фантазий, изрядно приправленных ядом мании величия.
«Стоп!» – говорю я ему. Мне надо разобраться. Заказчик пристально смотрит на меня, пожевывая толстыми губами. Повисает необычная для этого полуострова тишина. Я не слышу даже звука бряцающих колокольцев на откормленных шеях быков, бегущих за Европой… Да о чем я? Сегодня второе января, быки бессильны. Отсчет пошел. Спустя десять секунд мой профессионализм и привычка к вдохновению должны выдать гениальную идею, способную преобразить этот зал, вселив в его атомы мелодию, которая навеки останется в алчных сердцах этих маленьких дряней, рожденных в роскоши, живущих в ней и стремящихся – тоже к ней.
Судьба спасает меня в тысячный раз. Необычный блик в глубине сумрачной дали, знакомый щелчок фотокамеры, и что-то из прошлого – будто и не прошло семнадцати лет. Пушистые светлые волосы, голубой джинсовый комбинезон, длинные ноги… Хорошо, вот мое признание: раз двадцать мне снился этот одуванчик вместо головы.
Я быстрым шагом направляюсь в гулкую глубь готического тоннеля. Это не может быть ошибкой. И даже больше – я не могу игнорировать столь непредвиденное послание Вселенной. Хотя в чем его смысл, я не понимаю ни сейчас, ни после. Все, что завертелось вокруг меня с этой минуты, лишь неприглядно высвечивает тщету моих попыток привести мир в соответствие с собственным замыслом. Может, это и есть тот урок, который я должен усвоить? Яркий луч софита, направленный на мою непомерную гордость? Отнюдь! Мне слишком часто дают это понять, чтобы я принял к сведению. Упрямство только разгорается – с каждым прожитым годом, с каждой нажитой нитью проседи в волосах.
– Памела! Не может быть! Какой приятный сюрприз. (Галантность – мой конек).
– Николас… – а она всегда умела сделать вид, что ничему не удивлена.
– Неужели ты меня узнала? Столько лет прошло, – я смеюсь и картинно провожу рукой по остриженным волосам.
– Изменился, – подтверждает она, – но узнаваем. Профиль, взгляд – никуда не денешь. И потом, не забывай… Я все-таки тоже… художник.
О, коллегиальная зависть, замешанная на сексе.
– И что же ты делаешь здесь?
– То же, что и ты. Проектирую.
– Та-ак… А я на что этому хмырю? – я киваю в сторону богатенького Риччи, надеясь, что он не силен в жаргоне моего родного языка.
– Не переживай, меня он пригласил уже из вежливости – давние знакомые, – она вздыхает и разводит руками.
– То есть, мы в какой-то мере соперники?
– Нет, что ты, – Памела мило улыбается, – я в какой-то мере… крот. После твоего появления гожусь лишь для репортажа.
– Ты ведь не украдешь мою идею?
– Сфотографировать твое сознание, Ники?
Она назвала меня домашним именем! Интересно, это близорукость, или же – дальнозоркость?
– Не сдавай меня раньше времени прессе, – я неосторожно царапаю ногтем объектив ее камеры, – не люблю, когда разглядывают пятна от соуса на моем домашнем халате.
За спиной раздается недовольный баритон.
– Мистер Фламинг, вы уже можете что-нибудь предложить? Макет и фото были высланы вам две недели назад.
Поначалу они все так разговаривают. Я оборачиваюсь с лучезарной улыбкой. Дорис, Джон, итальянец, непривычная светотень. Где-то здесь должны быть звуки, видения, духи. Где-то здесь – как и везде – временная спираль должна сойтись в одной точке. Это начало, отправной гудок для каждой моей идеи, которая, несомненно, уже живет внутри, занесенная пустынным ветром или октябрьским дождем.
Вот, гляньте – вдали, в замшевой пыли арочного проема мелькнули две детские фигуры в синей форме, и стремительно направились в сумрак, рисуя в нем всполохи ногами в белых гольфах.
Под выцветающую трель девичьих голосов и мягкое джинсовое шуршание комбинезона Памелы, я внезапно улавливаю легкое дуновение того самого ветра в глубине своего мозга. Затем – солнечная пыль, дрожащая в стреле луча, проникшего в приоткрытую дверь. Так открываются ворота в космос. Впрочем, опять я вру! Откуда мне знать, как именно они открываются? Каждый раз это происходит по-новому. Сегодня – вот так. Возможно, старые своды призвали сюда этого вестника света, солнечный луч. Он связал воедино стремительно убегающее детство и зрелость, успокоенную шелестом трав над руинами грез.
Пожалуй, все действительно началось с этого луча. Взрезав плоть нечаянно набежавших туч, он ворвался в узкое оконце в торце длинного коридора, озарив новым смыслом старинный витраж, исполненный в сине-красных тонах. Постороннему наблюдателю, очеловеченному и заземленному, это призрачное путешествие показалось бы молниеносным, однако в светозарной реальности все обстояло совершенно иначе. Луч замер и медленно, на ощупь пробираясь по мраморным плитам пола, двинулся вперед, проявляя смарагды и рубины, золотую крошку и сиреневую муть в полупрозрачных облачках пыли; добежал до конца коридора и нырнул в арку зала, в котором замерли в ожидании чуда несколько человек.
Не знаю, что-то было в линии этого нарушенного равновесия… Скрип двухместных качелей из детства, магнитная стрелка судьбы, трепещущая меж полюсов противоречивых желаний. Вымарай хоть одну деталь из готовой картины – и врата в бесконечность закроются. Поймав себя в идеальном центре – не настоящем, а чуть смещенном к настоящему, я вспоминаю свой сон, увиденный в самую головокружительную весну юности, когда в голове шумит еще за пару месяцев до выпускного бала. Кстати, именно тогда она меня и бросила. Я имею в виду Пэм.
– Мистер Риччи… Э-ээ… – изображаю я diminuendo,2 осознав неуверенность в том, что точно помню имя заказчика (обернулся к Дорис, она с поощрительной улыбкой кивнула). – Вы меня простите, но, может быть, похерим то, что обсуждали ранее? Все эти благословляющие ангелы, свитки с премудростями. Поймите меня правильно, я сам христианин, но скоро Миллениум…
– М-мм… Есть что-то на примете? – он недоброжелательно зыркает на меня черными глазищами. Верно, уже подсчитывает убытки от потерянного дня.
– Да. Вот здесь, – стучу я пальцем себе по голове. – Это поколение, за которым надо бежать, мистер Риччи. Сколько вы ни приучайте их к катехизису, у них уже есть Интернет. Все достижения мира в их распоряжении. Они знают стоимость каждой машины на «Формуле-1» – потому что присматривают там себе женихов.
Я ожидаю резонанса и даже готов выслушать отповедь, но обычно эмоциональный итальянец лишь приподнимает бровь. «Ничего, – усмехаюсь я молча, – это только вступление».
– Мир меняется. Их юность отличается от нашей… От моей, по крайней мере, – поправляю я сам себя, внимательно присмотревшись к массивной челюсти своего будущего хозяина. – Все уже не так безоблачно. Знаете, небесные глазки – это не про них. У них во рту розовый леденец, а в глазах – серая хмурь.
(Дорис уже смотрит на меня с подозрением, Пэм втихую ухмыляется).
– Нужно что-то такое же, как они сами, – я вновь оглядываю зал, задрав голову. – Давайте оставим затею с небом, но затянем его тучами. Не целиком, с редкими лучами солнца, пробивающимися сквозь них. Но не слишком много. Не должно быть слащавости, мы не на пляжах Ибицы. Это готический дворец, пусть и фреска будет темной. Но они все же полны надежд – такова юность. Их олицетворением будут птицы. Стая алых птиц. Взлетающих, сметающих, яростных, сопротивляющихся, достигающих. Яркие пятна, озаряющие больше, чем те самые лучи солнца.
– Алые птицы?
(Не помню, кто из них это спросил).
– Да. Около сотни. С учетом перспективы – разной величины. Удаляющиеся, приближающиеся. Неопределенного вида. Но острые, режущие и глаз, и предгрозовой воздух. Клубящиеся тучи, робкое солнце и кровавые птицы. Но это освященная кровь, понимаете?
И еще. Небольшой рекламный совет. Закройте зал на время работ, никого не пускайте, никому не рассказывайте. На бал все равно приедут репортеры, я так понимаю? Нет? Пригласите обязательно. Слишком много здесь у вас дочерей местных воротил. Это бонус школе. Представьте эффект, который произведет интерьер на девочек. Сияние в глазах, когда вы впустите их сюда. Это и будет недостающий свет. Они ожидали от вас тошнотворной пастилы с марципаном – вы уж простите, это особенность мировосприятия подростков – а получат образы из своих излюбленных темных фантазий. Ваш бал прославится на всю страну. Вы станете новатором. Детские психологи будут цитировать в своих книжках вашу напутственную речь.
– Сто тысяч чистыми, без материалов и подмоги, если вы нарисуете это так, как заставили меня увидеть.
Он уже трясет в экстазе мою руку.
Вот так я продаю свои сны. Кстати, он даже не заметил, как я обеспечил себе выступление на итальянском телевидении.
– Хотите остаться здесь до завтрашнего утра? – предлагает мне Риччи, когда мы выходим во двор, ослепивший, несмотря на пасмурную погоду, дневным светом. – Посмотрите местность, может быть, вдохновитесь еще больше. У нас хорошие комнаты в гостинице. А какая рекреация! Памела вам расскажет, она каждый день плавает в нашем бассейне.
– Да, Николас, – вворачивает она тут же, – это место надо прочувствовать. А бассейн – просто сказка. Римская сказка. Эпоха Империи, не младше.
«Зачем мне это?» – думаю я, но вслух соглашаюсь:
– Почему нет? Дорис, Джон, вы, наверное, хотите уехать в город?
– Мне было бы интересно познакомиться с этим архитектурным комплексом ближе, – поспешно отвечает Дорис. Она всегда выражается так, будто ее остановили на улице журналисты с местного телеканала, чтобы узнать ее драгоценное и – конечно же! – лояльное мнение о текущих делах в городке.
– Не-еет, – решительно отрезает Джон, – нет-нет. Я в город, в отель. Мне монастыри не по нраву.
…Нам предложен гармоничный ужин, в котором присутствует все, что я люблю: разноцветие, разновкусие, изящная сервировка и умеренность. Мистер Риччи изволил отчалить по своим денежным делам, и его багровые щеки, оттененные природой смуглотой, не вступают в хоровой сговор с томатами черри, и тем самым не нарушают обозначенное равновесие.
Даже мой маленький эскорт, «Пэм и Дорис, блондинки», оказался на удивление послушным и воспитанным. Обе обрядились в шелка по случаю ужина в древних стенах, в тусклом сиянии свечей в бронзовых канделябрах. На старшей было светло-зеленое платье в легких брызгах крохотных белоснежных цветов, тонкие лямки открывали красивые крепкие плечи с едва заметным узором веснушек. Признаться, наряд ей шел, но – Боже мой! – сокрушаюсь я над несовершенством мира, какой звонкий ведьмовской дурман он источал бы на рыжеволосой. Дорис оделась в однотонное голубое, с эффектным лифом и полностью оголенными плечами – также не подозревая, как восхитительно подчеркивает небесный цвет золотую кожу брюнеток.
Мы ужинаем, изредка вспоминая о правилах светской беседы и анализируя окружающий интерьер. Я надеюсь, поднявшись из-за стола, отправиться в отведенный мне номер на третьем этаже гостевого особняка. Признаться, я бы предпочел, чтобы меня поселили в опустевшие на время рождественских каникул комнаты девочек – я ужасно скучаю по школьной атмосфере, утраченной навсегда. И мою ностальгию только усугубляет воспоминание о тебе, твоих учебниках, стоявших на полке, игрушках, сидевших в изголовье кровати. Но администратор, сменивший заказчика, объяснил, что комнаты не освобождаются детьми – дабы они могли возвращаться в школу, как в родной дом. Здесь не слишком-то строго обходились с такими пташками, как ты, моя милая.
Впрочем, я не стал расспрашивать его дальше – он и так косо посмотрел на меня, видимо, предположив в моей персоне одного из тех извращенцев, что любят в вечернее время ошиваться у подобных райских кущ. Пэм тоже настороженно взглянула, по своей птичьей манере чуть наклонив голову набок – будто прислушиваясь к одному ей шепчущему голосу. Да, дорогуша, это было после тебя, и тебе – неведомо. Дорис вообще никак не реагировала: она не обращала внимания на подобные мелочи, которые для другой стали бы препятствием на пути к цели. По-своему очень умная девица: всегда держит взгляд на мишени. Порой мне доставляет истинное удовольствие развлекаться, проверяя ее выдержку и гибкость мышления. Подобными экспериментами я выяснил, что ее способность усваивать самые неудобоваримые вещи воистину превосходна. Или… Она просто не принимала меня всерьез, отметая в сторону все, что не укладывалось в мой идеальный портрет?
Однако мне не удалось заняться любимым делом, погрузившись в вязкий туман грез о тебе – столь осязаемых, что с лихвой заменяли мне реальность. «Ники! – окликает меня Памела, – Так что насчет бассейна?»
– Во сколько? – спрашиваю я, коварно просчитывая свое опоздание и надеясь на понимание ситуации, которое не позволит ей уронить достоинство, колотя в мою дверь.
– Часа через два? – вопросительно соглашается Пэм.
Дорис изящно прикладывает к губам салфетку, опустив глаза. «Записала в ежедневник: вторник, 2 января, 22.00», – догадываюсь я.
– Договорились, девчонки, – я подмигиваю, давая понять секретарше, что в очередной раз прочитал ее мысли. Она чуть вздрагивает, но лишь улыбается в ответ.
Я не собираюсь принимать водные процедуры, да еще и в компании двух женщин, каждая из которых претендует на власть над моей персоной. Одна желает доказать, что прошлое имеет значение и для меня; другая – что мое будущее подчинено ей. Хорошо, возможно, я слишком обостренно реагирую на подобные ситуации. Простите мне эту слабость: моя молодость была беспрестанной битвой за личное пространство. Однажды, в мгновение ока, я оказался знаменитостью, маленькой фигуркой, повисшей в открытом космосе, в беспощадных лучах прожекторов. Конечно, моя слава несравнима с известностью «звезд» музыки или кино, но и на талантливого художника в современном мире мультимедиа приходятся свои тридцать тысяч почитателей. Тем более, мне довольно быстро удалось стать миллионером, включив себя в список завидных женихов Европы. И все это было совершенно некстати: я был счастливо женат, и не собирался бросать свою супругу.
Двадцатилетний мальчишка, отчаянно кричащий о своей любви, пытающийся защититься ею от алчных рук и губ… Иногда я просыпаюсь от одного и того же кошмарного сна: я стою в толпе, каждый из которой тянется ко мне, моя грудная клетка разорвана и, опустив взгляд, я вижу, как пульсирует в ней окровавленное сердце. Я пытаюсь сказать им, что у меня есть сердце, а в нем – любовь, но все тщетно. Кто-то из толпы орет мне прямо в ухо, и этот ужасный голос не лишен интонаций глубоко ненавидимой мной житейской мудрости: «Это жизнь, малыш! Это жизнь! Ты нам должен. Ты должен хотеть быть с нами!»
Пока еще, на этой странице, мое повествование может показаться исповедью Нарцисса, но я постараюсь наглядно продемонстрировать процесс превращения гадкого утенка в лебедя. Я не Нарцисс, я какое-то другое редкое растение. И тем неприглядней смотрюсь в прокрустовом ложе нашего времени, что я – мужчина, которому от природы должно быть неразборчивым и любвеобильным. Моя проблема в том, что я всегда хотел настоящего. Но мое представление о настоящем почему-то не совпадает с общепринятым.
Меня считают мечтателем, в то время как я истекаю презрением, наблюдая жалкие человеческие попытки жить иллюзиями. Растиражированные сценарии жизни – разве это не самая великая иллюзия? Получать образование, веруя, что оно есть признак истинного ума. Зарабатывать деньги, как свидетельство своего дара. Создавать семьи, которые развалятся через пять лет, но убеждать при этом и себя, и всех вокруг, что это – та самая, вечная любовь. Гнаться за воплощением мечты, думая, что она принесет окончательное счастье. Без иллюзии нет действия. Человек, лишенный иллюзий, впадает в ступор от осознания бессмысленности своей жизни. Человек, умеющий двигаться вперед без них – уже больше, чем человек. Я себя к таковым не отношу, увы.
Ты – та же иллюзия, и я лишь смею надеяться, что твоего зелья мне хватит до конца дней, и я никогда не проснусь отрезвленным.
Но подверженность иллюзиям не освобождает меня от их осознания, и это болезненный парадокс. Я раскаиваюсь, как алкоголик, признавший свою слабость, но продолжаю хлебать отраву. На сегодняшний день я свел к минимуму свои заблуждения, оставив из их огромного числа только самое любимое – тебя. Остальное мне оказалось не под силу: пытаясь сделать то, что и все, я ощущаю во рту нарастающий привкус горькой желчи, поднимающейся из нутра. Все простое и человеческое – яд для меня.
Так было не всегда, я родился другим – не в той золотой середине, где живет большинство, а сразу в двух обличиях, одно из которых находилось в противоположной от меня сегодняшнего, крайности. Попадая в поле зрения людей, я становился приспособленцем, хитрецом, лицемером, желавшим лишь одного – славы и богатства. Теперь я люблю оправдывать себя тем, что все это было неспроста, и необходимо для того, чтобы ты узнала обо мне. Но когда я встретил тебя, то испил из столь чистого и звонкого источника, что все остальные родники кажутся мне либо пресными, либо испорченными. Прикосновение к тебе вселило в мою душу точное знание вещей. Что такое любовь. Что такое смерть. Что такое смысл. Что такое путь. И теперь тени на полу не могут меня обмануть – я всегда ищу предмет, их отбросивший.
Я потерял самую важную способность для выживания: умение играть в театре отсветов и отражений. В качестве спасения осталась лишь крепость гордыни: иначе я давно бы погиб, растратив все свое состояние и сердце. Я построил неприступные стены вокруг себя, настоящего, когда понял, что таковым никому не нужен. И за пределами этих стен я делаю вид, что играю – но им, людям, кажется, что по общепринятым правилам. На самом деле, я потчую их настоями, приготовленными в моей крепости. Они спрашивают, откуда они, но я не раскрываю секрета, прячась за профессионализмом и понятными всем формулировками.
Итак, я сижу в весьма уютной казенной спаленке и придумываю, как далеко могу уйти в свои грезы – на тот случай, если подружкам захочется громче стучать в мою дверь. Шуршание дождя по старому монастырскому камню вынуждает меня подойти к небольшому окну, глубоко посаженному в стену. Когда-то я любил солнце, но с некоторых пор оно перестало меня вдохновлять, и теперь все мои кисти подчинены либо движению небесных струй, либо тайнам ночи. Сейчас и то, и другое уже почти слилось, и я всматриваюсь во мглу за окном. На какое-то мгновение я ловлю себя на странном, утерянном ощущении: оно родом из детства, наполненного гораздо большей старческой мудростью, чем зрелость. Я вдруг понимаю, что этот дождь, и поздний вечер, и густая серость за окном – уже были. Словно конский волос, впивается в мою душу спираль воспоминаний, болезненно и беспощадно вворачиваясь в ее податливую плоть, и я ловлю тот миг, когда ливень за окном казался для меня даром небес. Вместе с этим, вновь прочувствованным вкусом, вливается пронзительная тоска, которую я привычно пытаюсь поймать на кончик воображаемой кисти: пока она не успела смертельно ранить, ее можно выплеснуть на ментальный холст, а затем создать его в реальности.
Но пейзаж за окном и история, дышащая сквозь поры старины, зовут меня поиграть – переплести нити наших судеб, коварно подхватив на крючок тонкий луч и твоей жизни. В течение последних восьми лет я страдаю от невозможности подарить тебе что-нибудь осязаемое, реальное – но могу наполнить царство моей души, в котором ты живешь. Я собираю в него впечатления, события, и примеряю их на тебя. Везде, где бы я ни был, я обрываю острые шипы и закругляю опасные углы, я запоминаю, зарабатываю и поддерживаю связь, чтобы однажды наградить тебя за озарение и вдохновение, которые ты даришь мне.
На часах половина девятого: у меня еще достаточно времени, чтобы ознакомиться с хвалеными красотами здешних мест, пока мои готовые на все нимфы спустятся к водопою. Облачившись в плавки и прихватив все необходимое, я торопливо иду в разрекламированный бассейн.
Он оказывается подвалом, в котором за невзрачной коричневой дверцей прячется бело-синий античный мираж: сеть прямоугольных, до гулкости огромных помещений, сопряженных между собой арками и пронизанных точными стрелами высоких колонн. Прикосновение обнаженных ступней к мраморному полу и мощь свежего воздуха, прохладой и особым ароматом чистой влаги врывающегося в ноздри, отзываются во мне изысканным чувственным удовольствием. Высота арочных сводов не подавляет, а открывает просторы, повсюду действительно царит эллинское великолепие.
Синяя и голубая мозаика с редким, но броским вкраплением багряностей светится из глубины бассейна, играя с подступающим лунным светом, распыленным сквозь призрачные витражи высоких, величественных в своей открытости окон. Сюжет картин искусно вплетен в пространные, неопределенные пейзажи, занимающие большую часть каждого окна, а потому истории, рассказанные неизвестными мастерами, остались для меня неузнанными. Я уяснил лишь, что на них было много моря, гор и неба.
В этом чудесном мире смущает лишь одно – невозможность контролировать пространство, изломанное двумя угловыми переходами и образующее теневые провалы с помощью колонн. Но я уже понимаю, что не прогадал, поддавшись мимолетному настроению: в мои легкие влито столько света и воздуха, что его, вкупе с твоим взглядом, который я обязательно инкрустирую древностью, хватит на целый вернисаж.
И потом – если даже забыть о практической пользе – я так хочу окунуть тебя в эту лазоревую воду.
Я оглядываюсь вокруг – уже восхищенный великолепием, уже зависимый от приятного запаха сырости, и устраиваюсь удобнее на гладком мраморе, в одном шаге от воды, чтобы впитать картинку в себя, вписать ее в формулу своих заклинаний, которыми затем продолжу творить собственный мир. В надежде, что когда-нибудь он, послушный моей кисти и мановению руки, воплотится в том, что остальные именуют реальностью.
Я спускаюсь в воду – она приятно теплохладна, она готова принять меня без сопротивления, она рада излучению моего тела. Может быть, с этого начнется очередной виток волшебства… Если мне удастся сосредоточиться, завтра я весь день буду пьян воспоминаниями: мой дар грезить настолько силен, что его плоды порой заменяют мне пресное тесто повседневности. Я буду ощущать это, как осознанное сновидение, и на него отреагируют не только самые порочные в своей слабости части тела – даже рецепторы моего языка смогут почувствовать вкус твоей кожи, заставив железы выплеснуть маленькую порцию опьяневшей слюны. Впрочем, об этих вещах не принято писать, хотя они касаются каждого. Не всякий достигает таких высот, но все используют свою способность мечтать – и таким образом тоже.
Если бы вы хоть однажды добрались до сияющих вершин искусства потустороннего путешествия, когда ваше тело продолжает нести на себе его следы и по пробуждении, когда столь явственно чувствуете на своей коже прикосновения! А иные (я читал, например, о Наполеоне) умеют прихватить из него и пару драгоценных вещиц. После этого вы никогда бы не отозвались пренебрежительно о мечтателях. Вы поняли бы, что это такое же искусство, как и все остальное. И есть начинающие поэты, судорожно разыскивающие сбежавшую рифму, маленькие художники, не справляющиеся с лужицей краски, будущий призер, пытающийся растянуть крохотные пальчики на клавиатуре рояля – а есть и те, кто уже все получил. Разве тогда вы назвали бы эти достижения выдумкой?
Знакомый потусторонний транс врывается в мое существо, захватывая подсознание. Я наблюдаю привычную перемену тональности в токе крови и, отыскав тебя в космосе, со всей внезапностью обнимаю усмиренной мрамором водной стихией. Ты чуть удивленно съеживаешься, сидя на своем диване. Подняв взгляд от книги, устремляешь его в окно, пытаясь за ним найти ответ. Но там все по-прежнему – это январский вечер. В углу комнаты поблескивает своими драгоценностями елка, и ты стараешься сосредоточиться, отгоняя невесть откуда взявшуюся ностальгию по теплому морю. Ты опять сопротивляешься – как всегда. Но я настойчив, и даже если сейчас мне придется порхать вокруг в оглушительном молчании, мои грезы и желания настигнут тебя глубокой ночью, когда ты не сможешь контролировать защиту. Ты уже ничего не помнишь. Ты забыла, как мы играли и ловили звезды в свои карманы. Ты умудрилась растерять силу, твои глаза закрылись, и теперь ты даже не понимаешь, откуда вдруг берутся эти далекие образы и стремления в твоем сознании…
– Николас! Ты уже здесь?!
Изумление в женском голосе вонзается ножом в солнечное сплетение и проворачивает дыру через грудь до горла. Все-таки я был прав насчет дурацких замыслов древних архитекторов: две кошки прокрались сюда из будущего марта, а я даже не заметил. Хорошо, что они стоят за моей спиной – выражение лица сейчас у меня, видимо, презабавнейшее.
– А вы что так рано, дорогуши?
Обе в купальниках и парео, будто мы в Сан-Тропе.
– Вам не холодно было идти сюда в таких нарядах, девочки?
Они хихикнули, как заводные куклы одной фабричной партии.
– Ну, присоединяйтесь, – я обреченно вздыхаю, сопроводив это широкой улыбкой. Из-за нее они все равно ничего не заметят.
Пэм не надо было долго упрашивать – возможно, она просто хотела размять свое натренированное тело в воде. Я не упускаю возможности обогатить опыт художника, и пристально разглядываю ее, пока она спускается ко мне: это тем более интересно, что я помню каждую ее родинку и шероховатость. Она, конечно, изменилась. Больше нет той юношеской тонкости, хотя и тогда ее ладный шведский скелет обещал быть весьма удобным для продолжения рода. Оказывается, прежней осталась только привычная джинсовая униформа, а под ней спрятаны от любопытных глаз зрелые материнские бедра. Да и грудь явно потревожена алчным ртом неизвестного мне младенца.
Это заметно не только мне. Вот и Дорис не сразу окунулась в воду, изящно прогулявшись вокруг бассейна, демонстрируя оттененное солярием молодое стройное тело. Да и затем, войдя в голубую прохладу, не забыла картинно, в лучших традициях дешевых студий Голливуда, пригладить волосы, очертив крепкий череп пловчихи. Я решаюсь включиться в сет, нарушив зыбкое равновесие, которое до сих пор поддерживалось лишь моим благородным молчанием. То, что я делаю – не по-джентльменски, но я уже знаю наперед, чем закончу сегодняшний вечер. Маленькая мышка по имени Пэм может и потерпеть: я выведу ее из лабиринта, и дам-таки лакомый кусочек сыра. Нет, я подарю ей гораздо больше – его тонкий аромат. И тогда она сможет делать с ним все, что захочет.
– Пэм, – ласково спрашиваю я ее, как старую знакомую, – у тебя ведь есть дети?
– Да, – шелестит она, словно стесняясь своей жизни, – дочь. Ей тринадцать.
И сползает еще ниже, тщетно пытаясь укрыть грудь в прозрачной воде.
– Ох, слава Богу… А то я уж подумал… – я подмигиваю ей, и она растерянно улыбается, распавшись на атомы от моих бесконечных опытов и химических реакций.
– А расскажите, как вы познакомились? – щебечет Дорис, подплывая близко… Слишком близко. Милая, ты не девственница, чтобы я принимал ванну после тебя, желая омолодиться.
Памела молчит, выжидая, когда я приду на помощь. Я не иду – лечу!
– О, это было давно… На маленьком пленере. Да, Памела?
Она кивает.
– И что, – с въедливой неприкрытой иронией продолжает Дорис, – сразу стали встречаться?
– На следующий день, – четко выстреливает Пэм.
Она уже разобралась в ситуации. Неужели Дорис допустила оплошность и чем-то выдала долгий срок пребывания в роли моей тени? Моя секретарша не справляется с эмоциями и поджимает губы: на следующий день! «Да, – молча злорадствую я, – а ты бродишь возле моего дома уже шестой год!» Моя первая женщина, тем временем, невозмутимо продолжает:
– Я была так удивлена! Я всего лишь заинтересовалась беседой с Ником, он был развит не по годам. Позвала его на чашечку кофе, а спустя три часа он отвозил меня домой и не отпустил без поцелуя… Ты знаешь, что он такой настойчивый?
Бедная девочка совсем раздавлена. Криво улыбнувшись, она готова и дальше выслушивать счастливую историю чужой любви. В моей голове вдруг вспыхивает озарение: эта циничность вот-вот обернется против меня. Сейчас моя бывшая подружка начнет рассказывать, как мы предавались романтическим утехам, а затем… Таким же точным выстрелом убьет наповал и мой образ в глазах Дорис: «А потом я сказала ему, что нам лучше расстаться».
Кому я мщу? Джону за его настойчивость в обустройстве моей личной жизни? Или – ему же – за предательство дружбы ради мещанского семейного счастья? Впрочем, вряд ли второе: я никогда не претендовал на право собственности на своих друзей. Он бы удивился и оскорбился, если бы однажды понял, как тщательно я отмеряю дозировку общения с ним и ему подобными.
Дорис? Она всего лишь жертва моих чар и своего эгоизма. Она заперта в картонную коробку, оклеенную розовой бумагой. Там, вместе с ее личностью, лежат вырезки из глянцевых журналов – все по последней моде на магию мысли и намерения. Тут тебе и вилла на престижном берегу, и авто в цвет губной помады, и принц (может быть, даже два – на всякий случай). Пусть на другом уровне, но она чувствует то же самое, что и я: непреодолимый магнетизм своей цели. Она – словно мое отражение в нижнем мире: вправе ли я пенять на ее настойчивость, если сам с маниакальным упорством воплощаю свой замысел?
Или это моя месть тебе, за твою бездумную юную жестокость? Я гоню эту мысль прочь, не желая поднимать из глубин свою темную сторону. Я не знаю, кому приношу эти клятвы в нежности. Столько боли и отчаяния – удержу ли я свои пальцы в миллиметре от судорог на твоей шее, когда встречу тебя? Как только рождается этот вопрос, вопль несогласия рвется из моей души: я не хочу знать этого о себе! Я лучше буду думать, что отыгрываюсь на них: только за то, что они – это не ты, а сплошная живая стена, колышущаяся масса целеустремленных тел, практических расчетов и ничтожных эмоций. Они искушают меня, призывая присоединиться к всеобщему земному пиру. Они подчеркивают мое одиночество, сбиваясь в стада. Они соблазняют меня своими телами, изготовленными на современной фабрике жизни, оборудованной железными машинами, ультрафиолетовыми излучениями, шелкоткацкими станками. Я потерян в мире, который мне не подходит, у меня срабатывает инстинкт самосохранения, и ни один ангел не взял на себя смелость утверждать, что пульсация в моем сердце – истинна.
Но я до сих пор боюсь прикоснуться к ним: они оставят на моих руках и губах свой ядовитый налет, и он покроет волшебную пыльцу, оброненную тобой. Каждое их касание будет уносить меня все дальше от тебя, ввергать в забвение, стирать твой аромат с моей кожи. Это еще один способ потерять тебя – а ты продемонстрировала мне десятки других. Я не хочу. Я сбегаю.
За этими размышлениями я пропустил самодовольное мелодичное журчание Памелы, но мне чертовски везет: я подхватываю его как раз в тот опасный момент, когда она, выразительно глянув на меня, собирается поведать моей секретарше о том, как выставила за дверь влюбленного самонадеянного семнадцатилетнего паренька (может, писать это слитно, как биологический вид?)
– Но первая любовь долго не живет, не так ли, Пэм? – перебиваю я ее. – Тем более, что я у тебя был и не совсем уж первым.
– Здесь так романтично, – говорит моя помощница, – а от твоих рассказов, Памела, вообще голова закружилась. Я так и представила юного Николаса, страстно влюбленного, и ту весну. У меня идея: давайте я принесу плавающие свечки, я как раз купила их сегодня… И у нас где-то оставалось шампанское, да?
Она ловко выныривает и подтягивается на бортик. Внутренне застонав, я слежу за новоявленной русалкой, убежавшей прочь, оставив мокрые следы на мраморе, а затем и камне лестничных пролетов. «Пожалуйста, не возвращайся!» – умоляю я. Почему Вселенная издевается надо мной? Вместо желанного одиночества я опять втянут в человечьи игры. Что за обязанность – сопрягаться и строить пары?
– Тебя что-то гнетет, Ники, я вижу, – Пэм оборачивается ко мне.
Я отмалчиваюсь (что в этом удивительного? Это так мужественно), и она продолжает:
– Тоскуешь по ней?
Я вздрагиваю. Миллион электрических разрядов пронзает мое тело. Поднимаю глаза на блондинку.
– В газетах писали, что она тебя бросила… Сколько лет уже прошло?
– Ты не очень деликатна, Пэм. Все-таки изменилась.
– Прости, но я не со зла. Мне жаль тебя.
– Меня все жалеют. А зря. Они и понятия не имеют, о чем именно надо жалеть.
– Так сколько времени прошло?
– Шесть лет, – лгу я, назвав растиражированную официальную дату. Запах свежих газет из далеких дней ударяет в нос.
– Это много… У тебя до сих пор нет подружки?
– У меня бывают женщины. Этого достаточно.
Опять ложь. Нечистая ложь, чтобы скрыть еще более постыдную правду.
– Женщины? Не ври мне. Ты любишь отношения, а не бесцельный секс.
– Я тоже переменился, – сухо отвечаю я ей.
Раздается звонкий топот быстрых ног, и в зал врывается разрумянившаяся Дорис с нарядной коробкой в одной руке, и не менее праздничной бутылкой шампанского – в другой. В этот миг она еще столь непосредственна, подчинена своим самым искренним желаниям, что я невольно любуюсь ее молодостью. Но вот она подходит ближе, и ореол настоящего рассеивается, тонким джинном уходя в иные миры. Передо мной опять девушка из журнала, знающая, как к месту и вовремя использовать советы с тридцать седьмой страницы.
– О чем вы? Почему шеф такой грустный? Стоило оставить… Пэм, ты на него тоску болотную нагнала? Вода уже застоялась. Давайте-ка ее оживим свечами.
Признаться, это звучит возбуждающе – шеф.
Она бросает нам по зажигалке, и мы отправляем в путь маленькие лучезарные корабли.
– Я спросила у Николаса о Глэдис.
– Хм, – Дорис «обаятельно» морщит носик, – он не любит этих разговоров, это ты зря.
Странный эффект: они будто уплывают вместе со свечами из моего мира. Воздух сгущается между нами, и я слышу, как их голоса доносятся издалека. Мы под гипнозом. Девушки продолжают разговор о моей бывшей жене, зная – но уже не помня – что причиняют мне боль. Я, заведенной куклой, время от времени поддакиваю и вставляю ничего не значащие замечания. Слова теряют смысл, пространство насыщается идеей. Чьи-то чары окутывают нас, и мы теряем счет минутам. Нет, точнее: я теряю им счет.
Десяток маленьких свечей озаряет бликами воду, чуть тревожную от нашего дыхания, в дальних углах гулкого зала уже уплотняются тени детских страхов, и темнота, которая только что была простыми потемками, превращается в зыбкий мрак под действием моего (или общего?) подсознания. Последнее слово тяжелой каплей падает в воду, и воцаряется тишина, столь необычная для компании трех взрослых людей, двое из которых хотят заняться сексом. «Что бы сделал сейчас Джереми? – с легкой тоской думаю я. – И почему я не могу этого сделать?». Что за обязательства лежат на мне, какое проклятие? Разумеется, если бы одна из них, или сразу обе, сейчас подплыли ко мне и осмелились прикоснуться – я бы не устоял. Но начинать игру сам я не собираюсь. Видите ли, это не было моим желанием.
Однако, нельзя превращать это в подростковый фарс, ожидая, когда привидение вдруг выскочит из сумрака, заставив подругу прижаться к своему Ромео.
– Пожалуй, я пойду спать, девчонки, – говорю я, рассчитывая на свою внезапность. Пара взмахов крыльями – и я уже у поручней. Я не обращаю внимания на их лица и безмолвные вопли возмущения, взрезавшие воздух: мне пора в свое волшебное королевство. Подобрав полотенце, я ухожу. И тут замечаю нечто необыкновенное в клубке теней, в нише, образованной двумя колоннами.
Зеркало. Прекрасное зеркало старинной работы, не слишком широкое – метра полтора, не больше, но неимоверной высоты: всего двух футов не хватает до потолка, отчего в нем, как в магическом коридоре, отражается и пропадает все окружающее мраморное великолепие. Я заворожено подхожу ближе – мой абрис кажется потусторонним и беззащитным, и ослепительной фотографической вспышкой в память врывается тот момент, когда мы с тобой вот так же смотрелись в зеркало. То было обычное старое трюмо в сельском доме, но как двойникам в нем не хватало этого античного великолепия, ведь наши тела несли отнюдь не житейские идеи. Почти одинакового роста, с длинными волосами одного и того же оттенка (как и полагается всем богемным эльфам, я в то время любил шокировать своей внешностью мирных жителей), похожие, как брат и сестра, и даже кожа излучала общее на двоих сияние. Я бы продал душу, лишь бы сейчас увидеть тебя рядом со мной – как тогда.
Но ко мне подходит Дорис и встает – справа, не на твое место. Подбоченясь, разглядывает наши отражения. Сексуальность контрастов пришла на смену божественной гармонии. Я не хочу даже разговаривать с ней, внезапно почувствовав смертельную усталость от ее постоянного присутствия. Почему она все время рядом? От нее веет дурным предзнаменованием. И я с невежливой резкостью отворачиваюсь.
– Пэм! Пройдемся, я хотел поговорить кое о чем.
Дорис на сей раз не может скрыть агрессивного удивления: она смотрит на меня почти с отвращением. Пэм чуть вальяжно собирается, вытирая красивое мускулистое тело большим полотенцем, и мы направляемся к выходу. Она чувствует себя победительницей, и чтобы еще больше увлечь ее этим спектаклем, я оборачиваюсь и говорю секретарше, которая уже стоит к нам спиной, нервными движениями расправляясь с одеждой: «Дорис, дорогая, завтра в полдень мы встречаемся с мистером Риччи, я уверен, что ты подготовишь все необходимое». Бедняжка даже не находит в себе сил ответить, но, в конце концов, она всего лишь работает на меня. Довольный собой, я обнимаю свою первую любовницу, и мы выходим в продуваемый сквозняками космос школьных коридоров.
Нам надо на третий этаж, и все это время я намереваюсь молчать. Я убираю руку с плеча Памелы, как только мы одолеваем два лестничных пролета, вынесших нас из подземелья. Если бы я сделал это позже, то породил бы мучительный намек: в нем была бы нерешительность претендента, накаляющееся желание, сопряженное с необходимостью предоставить ей свободу. Это так легко вообразить: мы почти у двери, я чуть отстраняюсь, ухожу в смущенную замкнутость, чтобы дать Пэм возможность самой привлечь меня…
Но я не хочу этого. Поэтому бросаю ее в этих сквозняках раньше, чем на полпути. Она все понимает – это был фарс, ее использовали, чтобы избавиться от еще более назойливой соперницы. Разговаривать теперь точно не обязательно, и мы доходим до своих дверей (они почти по соседству) в полном молчании. Я поворачиваю ключ и останавливаюсь, чтобы дать финальную сцену.
– Ты должна быть довольна, Памела. Дорис никогда не узнает, что ты спала сегодня в одиночестве. Ты одержала над ней победу, мы в одной коалиции. Я короновал тебя, – я подмигиваю ей.
– Когда-то ты был милым мальчиком, – довольно спокойно отвечает она. – Но я уже не впервые сталкиваюсь с новым Ником.
Да, Памела повзрослела, и в глубине души я вдруг чувствую себя проигравшим. Она так хорошо держится, что в мою душу закрадывается сомнение: а нужен ли я был ей вообще – сегодня? Или эта мысль прилетела из далекой юности, пропитанной сочным запахом свежей майской листвы?
Мне больше нечего сказать. Я улыбаюсь и закрываю за собой дверь. У меня нет ни секунды на размышление: уже полчаса, как я чувствую твой зов, и не хочу рисковать – не знаю, что может произойти, если я вовремя не откликнусь. Есть хорошее выражение: держать лицо. Так вот, я в буквальном смысле не смогу его держать, если тотчас же не упаду в эти чары. По крайней мере, для посторонних оно не предназначено.
3 января, глубокая ночь, чужой город, далекая страна.
Мне необходимо обратиться к психиатру, черт подери… Но как я расскажу эту историю, пусть даже и буду лежать на кушетке у специалиста? Диагноз готов: я шизофреник. Поехать к китайским или мексиканским шаманам? Они бы мне объяснили, в чем дело. И потом… я так боюсь потерять эти ощущения. Хотя каждый раз обливаюсь слезами раскаяния: то, что происходит, так не похоже на мой волшебный сон, длившийся девятьсот дней и ночей, почти восемь лет назад.
После я сижу на постели, оцепенев, и словно со стороны наблюдаю бесконечную адскую суету электрических импульсов своего тела. Каждая его клеточка вибрирует, перенасыщенная тобой. Я чувствую себя негодяем, маньяком, насильником. Я осквернен самим собой – не тобой, нет, конечно. Но я сижу и вдыхаю запах собственной ненормальности, оттягивая момент, когда придется идти в душ. Я готов собирать в ладони собственный пот – мне все чудится, что в конце его гаммы, на том краю вселенной, я встречу твой аромат.
Но почему все облечено в такую ужасную форму? Я не понимаю, что происходит, это началось несколько месяцев назад. Я могу объяснить свою алчность и ненасытность, но нет оправдания тому, какие жестокие личины она принимает. И почему ты зовешь меня – такого? В мой разум закралось стойкое подозрение: ты не понимаешь, что происходит, не помнишь меня и путаешь с кем-то. Я вижу чужое имя и мысли о нем в твоем сердце. И зверь внутри меня находит свою неуправляемую тень в этом факте. Это так легко – разозлить его, раздразнить ревностью. И он, ведомый чувством собственности, бросается на тебя, как на законную добычу.
Когда это прекратится? Это мучает меня. Мое тело получает долгожданный дар, но разве об этом я мечтал? Под моими когтями больше твоей плоти и ее вкуса, чем на моих губах. Я хочу нежить тебя, девочка моя, а вместо этого ты разряжаешь в меня молнию и подчиняешь своему сюжету.
Ты не видишь меня, ты просто чувствуешь силу. Раньше ты гнала меня прочь, называя бесом. Нынче – замерев и трепеща, ждешь этого беса в сгустившейся тьме, даже не спрашивая, откуда он пришел. Что с тобой стало? И во что превратился я?
Впрочем, все это может еще оказаться и меньшим злом – моей психической ненормальностью. Странно, правда, что я так хорошо справляюсь со своими обязанностями в социуме. Небольшая рассеянность и безответственность, присущая всем богемным жителям, не в счет, не так ли?
Я прячу, все время прячу себя от человеческих глаз. У меня вечный страх перед ясновидящими, хотя само признание факта их существования иным может показаться сумасбродным. А я все боюсь: вдруг они прочитают мои тайные мысли? Я сплел удивительный узор из притворства и лжи, и пройду любой врачебный тест, поразив всех разумностью и прагматичностью. Я не знаю, что происходит со мной. Я везде ношу эти страхи – вместе со своим благополучием.
2
Диминуэндо (итал.) – музыкальный термин, обозначающий постепенное уменьшение силы звука.