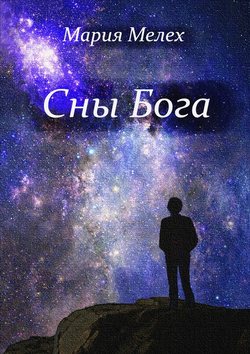Читать книгу Сны Бога. Мистическая драма - Мария Мелех - Страница 6
Предисновие
Глава 5
ОглавлениеКажется, мой предыдущий рассказ ничего не расставил по своим местам, лишь вывалив на головы внимающих ту огромную тяжесть, которая когда-то придавила и меня. Назойливая попытка объясниться, а может быть – предостерегающая табличка в руках: «Пожалуйста, осторожней. Я очень раним. И невменяем от сильной боли». Ребенок, искренне поверивший в свои фантазии? Но что произойдет, станет ли ваш взгляд менее насмешливым, если я напомню, что заранее планирую события своей жизни, занося их в графы потустороннего органайзера? Или проще выиграть в карты у вашей компании?
Вернемся к недосказанному о моей семье – там еще остались некоторые болезненные штрихи, способные сделать мой портрет чуть более ясным. В первую очередь, для самого себя. Всего лишь строки о том, как тяжело не видеть сходства между собой и другими. Не те глупые гуманистические (ставь знак равенства) рассуждения об индивидуальности, которыми обычно оправдывают собственные слабости и неудачи, а глубинные отличия самих основ психики, заставляющие однажды поверить в неприглядную для большинства теорию эволюции – необрезанную теорию эволюции, повествующую о том, что она не прекратилась, ее ничто не в силах остановить, как саму Лилу,5 вечное течение Игры. В бисер,6 если вы эстет и вам так угодно. И если все постоянно находится в движении – не значит ли это, что на планете одновременно существует несколько биологических видов, объединенных названием Homo Sapiens?
Моя старшая сестра, например, была самой обычной девочкой, похожей на всех вокруг. Затем она стала самой обычной девушкой, похожей на всех вокруг. Сейчас она – самая обычная женщина, хоть и уехала к своему мужу в совершенно другую страну, но и там похожа на всех вокруг. И эти слова ничуть не умаляют моей любви к ней и впаянной в кровь родственной привязанности.
Но я не могу лгать себе и вам, и не вправе искажать собственный образ, не так ли? Научившись осознавать себя, я быстро раскусил, что к чему, и ощущение было не из приятных. Мало того, что одержимость мечтами и собственным даром делала меня совершенно безоружным в своей искренности, превращая в деревенского дурачка с затуманенным взором, так я еще и не мог спрятаться в привычной для здешних мест оболочке. Невесть откуда взявшиеся южные гены разносили мой сандаловый запах на всю округу. И я очень хотел, чтобы в моем маленьком мирке нашелся кто-то, похожий на меня.
А потому с нетерпением ждал появления на свет младшей сестренки. Мама была на третьем месяце, когда отец с загадочным видом собрал всех в столовой (я, сестра, двоюродное семейство из соседней деревни, два кота, собака, парочка друзей клана и сама виновница торжества) и прочитал новый свод правил, принятых на ближайший год. Нельзя было шуметь, приносить плохие отметки из школы, быть стекла и хулиганить (интересно, кто бы стал это делать?), ругаться, неожиданно выскакивать из-за угла, отлынивать от домашних обязанностей… И еще тысяча пунктов, суть которых сводилась к словам «забота, комфорт и тишина». В общем, нельзя было делать то, чего мы и так никогда себе не позволяли. Я внимательно слушал и вытаращенными глазами разглядывал мамин живот, в котором поселилось странное существо, обещавшее стать человеком. Еще недавно я подманивал всех аистов графства, и вот теперь кто-то из них прокрался на тонких длинных ногах в наш дом. И что мне делать с этим чудом? Будет ли оно похоже на то, что рисовалось моему воображению перед сном? Маленькая прекрасная принцесса, тихая, улыбчивая, со звездным сиянием в глазах? Иногда шаловливая и капризная, но чаще – понимающая меня с полуслова?
«И вообще, Николас, – сердито прервал мои размышления отец, – кто тебе сказал, что это будет девочка?»
Неужели я опять задавал свои глупые вопросы вслух? Судя по хихиканью старшей сестры – да. Я встал и обиженно ушел к себе наверх, напоследок еще разок скосив глаза в сторону мамы и ее невидимого ребенка. Я был готов отдать свою любовь и заботу крошечной девочке, но терпеть рядом противного орущего младенца мужского пола… Увольте! Просто в нашей семье прибавится еще один, кто будет смеяться над моей болтовней и прогулками во сне.
Решив не делать далеко идущих выводов и мудро подождать, я хотел смягчить неопределенность безобидной местью, но она обернулась против меня самого. В городской библиотеке я тайком пробрался в секцию для взрослых и, вскарабкавшись на удачно подвернувшуюся стремянку, отыскал на одной из полок анатомический атлас. То, что я увидел, поразило меня до глубины души. Никаких тебе ангелочков с крылышками! Ничего, хотя бы отдаленно напоминающее бесподобное совершенство человеческой природы и сладкое обаяние младенчества. Нечто, представляющее собой генетическую смесь саламандры, морского конька и головастика. Вот что живет сейчас в животе моей матери. Вот что плавает в маленькой вселенной ее тела.
Примерно неделю я обходил маму стороной.
Затем, весьма внезапно, озарился откровением: я тоже когда-то жил в таком странном обличии? Я тоже был отвратительным головастиком с несоразмерно большим жадным носом, который и вдыхать-то ничего не может? Крохотный организм, паразитирующий на соках своей богини? Инопланетный вирус в капсуле из живой плоти?
Принципы эволюции так и не уместились тогда в моем сознании. Хотя родители, заметив мое нездоровое смятение, окрасившее лицо в муторную бледность, вытянули из меня признание и попытались подцветить его привычным набором образовательных и воспитательных формул. Я сидел, вцепившись пальцами в край стула, но мысленно затыкал ими уши. Я ничего не хотел знать о развитии плода и не верил в возможность сказочного превращения подсмотренного чудища в прелестное создание, появления которого я так ждал. И решил для себя, что буду верить в ангела, поселившегося в маме. «Может быть, – подумал я, – все, что написано в этой мерзкой книжке, и касается людей, но мы – особенные, и у нас все по-другому». У меня оставался еще один вопрос, и я его задал.
«Папа, мама, а при чем здесь аисты? Оно… Он больше на рыбу похож».
Родители переглянулись, и в следующие десять минут я узнал о некоторых основах брачно-семейных отношений. В невинных и стыдливо завуалированных выражениях, конечно. Какая-то часть моего детского сознания все поняла, собрав воедино отдельные обрывки слов, звуков, взглядов, картинок, но…
«Я устал. Пойду, порисую, – сказал я им. – Спасибо большое, мне полегчало».
Я действительно почувствовал невероятную усталость от жизни в тот момент. Пожалуй, такое было впервые. Рисовать я не смог: в голову лезли только расплывшиеся акварельные образы лиловых, розовых и красных оттенков. Мне не хотелось воплощать их на бумаге, ведь теперь я знал наверняка, что они и так существуют.
В конце апреля она родилась, и была наречена – Мэгги. Когда ее принесли домой, я уже нетерпеливо отирался о косяки родительской спальни, в которой на первых порах должна была стоять ее кроватка. Ее уложили, и меня наконец-то позвали. На красивом розовом одеяльце лежал сверток, похожий на крохотную мумию, в верхней части которой из тугого кокона ткани проступало красное личико, больше напоминавшее мордочку новорожденного котенка или обезьянки. Казалось, все лицо состоит только из рта и носа, алчно тянувшихся к невидимому соску – хотя девочка спала. В тот момент в ней не было ничего, кроме оглушительного физического желания выжить. «Сосунок», – подумал я, и тут же шальная мысль пошатнула мою невинность: «Может быть, она и была тем странным существом в мамином животе».
Больше меня это не волновало. Я почти окончательно принял ничтожество положения, коим было вочеловечение. Матери требовалась помощь, и я смог выплеснуть накопившуюся потребность заботиться о ком-то. Я ухаживал за малышкой, и она росла фактически на моих руках. Родители не могли нарадоваться на меня, хотя отец предпочел бы видеть мою заинтересованность где-нибудь в гараже или на ежегодной выставке рыболовной снасти. Старшей сестренке было уже не до нас: она постигала азы взаимоотношений с противоположным полом.
Какое-то время я еще питал надежду, что увижу превращение гусеницы в бабочку. Я внимательно всматривался в проступавшие из полуживотной младенческой невнятности черты ее будущего лица, пытаясь понять, чем и на кого она похожа. Игра была увлекательной, но задорная простота профиля и масти, проявившаяся уже через пару месяцев, разбила мои иллюзии: Мэгги была похожа на родителей и все наше семейство. На соседей и моих школьных друзей. На тех, кого я видел по телевизору, в журналах и газетах. На всех. Кроме меня.
К тому моменту, как ей исполнилось пять, я растерял остатки своего необыкновенного интереса к ней, поняв окончательно: это – не мое личное чудо. Это – моя семья. Я катал ее на велосипеде и помогал печь куличики. Я приделывал отвалившиеся руки, ноги и головы ее куклам. Я даже пытался научить ее рисовать, правда, безуспешно. Но мне совсем не было жаль красок, и лишь чуть-чуть – дорогой шероховатой бумаги, привезенной отцом прямо из Лондона. Я любил своих сестер. Смирение входит в нашу жизнь, порой принимая не слишком привлекательные формы. Но они – лишь отражение пороков и эгоистичных иллюзий, которые мы теряем, как змея свою морщинистую ссохшуюся кожу.
И только я примирился с тем, что у меня никогда не будет идеального друга, воплощенного в образе нарисованной феи, как отец опять собрал нас. Теперь я сидел с каменным лицом, нарочито игнорируя живот матери и ее вновь засиявшие особой нежностью глаза. Вряд ли я был разочарован и умудрен опытом. Скорее, просто экспериментировал с земной магией: возможно, если на сей раз я не накачаю свое ожидание надеждой и предположениями, все будет иначе?
Июнь. Аромат белых цветов в воздухе. Пряная свежесть листвы – еще без золотого напыления жары и магистрального смога. Мне достаточно было одного взгляда на маленькую Элизабет, чтобы понять: она – нечто иное, нежели остальные. Она… действительно похожа на меня?
Уже не было необходимости доказывать свою состоятельность как няньки для новоиспеченного на углях рая младенца: Лиз доверили мне с радостью. Дыхание спирало, я преисполнялся гордости, когда тащил ее на руках в сад и прогуливался у ажурной решетки, позволяя проходящим мимо соседям умиляться на пасторальную картинку.
Мы разговаривали с ней глазами и прикосновениями. Она была тихим и сообразительным ребенком, с необыкновенно осмысленным звездным взглядом, всегда готовая улыбнуться и схватить меня за палец. От нее пахло чем-то сладким, что напоминало о вечном Сочельнике – молоко, печенье, ваниль. Несмотря на покладистость и сияние доброты, она не любила спать по ночам, и родители намучились, пытаясь уговорить ее принять горизонтальное положение в кроватке – проблемы начались, как только она научилась сидеть. Она редко капризничала. Но иногда на нее находило странное состояние, и тихие слезы, капнувшие из больших блестящих глаз, вытягивали за собой целый поток, и девочка начинала заходиться в непонятном, пугающе горьком плаче, запрокидывая головку и синея с каждой минутой. Когда она наконец утихала, мама долго стояла над ней и озабоченно вглядывалась в ее личико, и спустя несколько месяцев глубокая морщинка пролегла поперек ее лба.
Как только пелена потусторонности спала с глаз Элизабет, а пух на ее голове стал приобретать отчетливый нездешний окрас, отец вынес свой вердикт: «Что ж, кажется, она пошла в породу матери. Как и ты, Николас, похожа на деда. По крайней мере, не будет проблем с женихами: вырастет экзотичная красотка».
Она умерла в декабре, за две недели до Рождества, так и не успев сказать мне ни слова.
Мама немного поплакала, отец поддерживал ее ласковым молчанием. На какой-то промежуток времени в доме воцарилась необычайная тишина, доселе незнакомая мне. Мы осторожно ходили по лестницам, тайно умоляя их воздержаться от скрипа. Тихо спускались к обеду и ужину и старались не стучать столовыми приборами. Научились самостоятельно решать свои проблемы и справляться с делами – будь это завершение семестра в школе, ветрянка, неожиданно поздно захватившая Мэгги в пятнистый плен, или покупка акций нового предприятия, еще никак себя не зарекомендовавшего. Но Рождество, пусть даже оно и прошло на цыпочках по нашему дому, было по-прежнему волшебным: родители улыбались, подарочная упаковка шуршала, ель источала освежающий эфир, индейка скворчала на противне в духовке.
В Сочельник, часов в шесть вечера, когда чародейское зимнее зелье было почти готово, дожидаясь последних ингредиентов, струйками ароматов сочившихся из кухни и оцепивших весь дом, отец подошел ко мне, сидящему в кресле в гостиной, в тени еловых лап и мерцании свечей. «Все в порядке, малыш», – сказал он и потрепал меня по волосам. Я улыбнулся в ответ. «Все в порядке, – повторил он, – мы не успели привыкнуть… к ней. Поэтому скоро все забудется».
Я вновь улыбнулся. Да, это правда – все было в порядке, и я тоже не проронил ни слезинки. Но для меня не существовало временных перегородок и линейности – этого ни он, ни кто-то еще не могли знать. И потому я привязался к ней всем сердцем, уже побывав на ее первом причастии, выловив лучшие из персеидов на августовском небе, и даже успев по-братски приревновать к обаятельному однокласснику, заинтересовавшему ее. И вот она ушла, а они так и не узнали, кем она могла быть.
В тот вечер я впервые отчетливо осознал, что никогда и, похоже, почти ни с кем не найду взаимопонимания. Внутри меня, в голове ли, в сердце или душе (я не знал точно), было слишком много того, что я с трудом мог выложить в мозаику слов, чтобы донести до людей. А если бы и сумел – они не поняли бы этого орнамента. Меня словно укладывали на Прокрустово ложе, крепко спаянное из железных прутьев человеческой психики, а я не умещался, страдал от непреодолимого желания вытянуться и выгнуться под гнетом этих массивных цепей. Мои кости ломались, мышцы разрывались, кожа лопалась, но никто не видел моей боли и отчаяния. Где лежали тома с законами того мира, из которого я пришел в этот, я не знал. Мне приходилось высчитывать и угадывать их интуитивно, шаг за шагом, и прятать открытия от других. Речь шла о выживании.
Пока Санта, смущенный тишиной нашего дома, робко топтался на припорошенном снегом крыльце, я выскользнул из гостиной и, пробравшись наверх, заперся в своей комнате. Я выбрал небольшой лист для магического ритуала: чтобы воплотить маленькую и хрупкую Грезу, не требовалось много пространства. Я рисовал быстро и уверенно, поскольку не раз выкликивал ее в сновидческих путешествиях. Подросшая Элизабет, разорвавшая родственные путы, связывающие ее со мной – так было безопаснее, ибо в глубине души уже зародилось чувство вины за слишком навязчивое стремление заполучить друга-двойника. Мне казалось, что Бог карает меня за нарушение равновесия, подарив и забрав у семьи мой же замысел. «Будет надежнее, если она родится подальше от меня, – думал я. – Может быть, она странным образом не помещается в нашу семью, а я слишком сильно вымаливаю ее, и тем самым подвергаю опасности».
Через час правдоподобный портрет несбывшейся Лиз был готов. Я нарядил ее в лиловое платье, так подходившее к волосам и оттенку кожи. Пустота вокруг образа пугала меня, напоминая о ее недавней развоплощенности, и немного поразмыслив, я поместил девочку в лавандовое поле. Судя по отсветам неба и тональности цветов, дело происходило в рассветный час.
Теперь предстояло сделать самое трудное: отказаться от того, что любишь. Приспособленный к невероятным приключениям, я легко справился с большим металлическим подносом, прислоненным к дальней стенке столового буфета. Вытащив его и удачно, без единого звука, миновав фарфоровые баррикады сервиза, выбрался с ним и своим рисунком на крышу через чердачное окно.
Разница восприятия мира поначалу чуть не сбила меня с ног, и я пошатнулся под порывом невидимого ветра, испуганный внезапно обнаруженной высотой и по-настоящему сказочной тишиной Сочельника, спустившегося на городок. Наш дом не был самым большим в округе, но холм, на котором он стоял, в обрамлении зимы и мрака, приукрашенного каплями янтарных фонарей, проявлял неподдельное превосходство над своими соседями. Раньше я выходил сюда только в теплое время года, когда черепица хорошо ощущалась босыми ступнями, и была понятной и покладистой, разморившись под лучами солнца. Теперь же ноги утопали в снегу выше щиколоток, и где-то там, под ним, в невидимом мире прошлогоднего лета, подошвы ботинок опасно скользили по озлобленной обманом природы крыше. Я нанизал все эти противоречивые эмоции на ожерелье своих ожиданий, втайне надеясь, что их сила послужит верно подобранным реактивом.
Время поджимало, и я вытащил из кармана джинсов увесистую кремниевую зажигалку с длинной ручкой: трофей, доставшийся в наследство от дедушки-моряка. Мне почему-то показалось – если я воспользуюсь именно ею, мечта получит больше шансов на воплощение. Ведь мой бородатый предок в настоящем боцманском кителе обогнул мир не менее ста раз. А значит, опутал своим духом всю планету, и теперь эта магия обязательно должна помочь мне, его внуку. Знать бы мне тогда, какие искаженные формы – словно насмешка в лабиринте кривых зеркал! – примет этот концентрат энергии в будущем: к сегодняшнему утру я объездил, облетел и обшарил этот мир уже тысячекратно больше, чем дед.
Рука не поднялась разорвать рисунок на несколько частей, чтобы облегчить работу огню, неспокойному в открытом космосе позднего вечера. Я даже не смог скомкать его в дрожащей вспотевшей ладони, тыльная сторона которой мгновенно расплавляла неосторожные снежинки, приземлившиеся на мою кожу. Опасаясь резкости ветра – редкого, почти не нарушавшего рождественскую идиллию, но беспощадного в своей ничтожной дозволенности – я все же положил лист на поднос и аккуратно поджег правый нижний угол. К моему удивлению, плотная бумага схватилась ровно, и наколдованный образ стал уходить в неизвестность, скрываясь под темными пятнами и шафрановым пламенем.
В какой-то миг я почувствовал безысходную тоску, и мне захотелось выхватить остаток тонкого абриса из пасти неумолимой стихии – словно я был великаном, и у моих ног неизвестные крохотные и злобные существа творили аутодафе над моей сестрой, уличенной в нездешнем очаровании. Но боль тут же отпустила: кто-то, неминуемо взрослевший внутри меня, твердо решил, что лучше воплотить свое желание в будущем, чем насладиться его осколками и невнятными намеками в настоящем.
…Я не должен лукавить в своей главной исповеди, поэтому скажу прямо: прошло не так много времени, года два-три, и детские мечты остались в том вечере, когда Рождество еще действительно означало веру в чудо. Я рос, наливался амбициями, во мне вызревали новые грезы, и я видел уже совершенно другие сны. Порой яркая реальность, дарившая настоящий успех, позволяющая манипулировать человеческими душами, становилась предпочтительней зыбкого мира надежд, который, может быть, и научил меня летать, но не оставлял для других никаких доказательств по пробуждении. Говорят, в бурные годы молодости, когда мы преисполняемся гордыни и самоуверенности, Ангел-Хранитель отступает от нас, позволяя совершать ошибки – не лишающие права жизни, но превращающие путь в неопрятный колтун, болезненность которого начинает ощущаться лишь после тридцати, когда: «Земную жизнь пройдя до половины…». Не знаю, правдива ли эта формула для чужих судеб, но с моей она была беспощадна. Даже достигнув небывалых высот мистического опыта, я не смог избавиться от черных щупалец собственного Эго, и задушил все прекрасное, что было открыто мне. Я просто слишком сильно пытался удержать его в своих руках.
Но до того времени поводы забыть о духе и душе являлись каждый день, посланные специально для меня из преисподней. Мне было восемнадцать, когда стало исполняться все, что было увидено и придумано мной в лихорадке ранней юности. Обрывки сюжетов, манящие сладостью и удачей, картинки, оставшиеся от неземных путешествий, сложились в моей голове в точную карту, которая вспыхивала маяками каждый раз, когда мне следовало сделать выбор и принять то или иное решение. К сожалению, искус не обошелся без обмана. И, как водится в старых легендах из протоколов инквизиции, золото, подаренное обаятельными демонами, спустя несколько миль пути превращалось в золу, высыпаясь сквозь прутья корзины и оставляя, как улику, отчетливый и отвратительный след, тянущийся за мной. Упиваясь воплощенным волшебством, я не предугадал ничего из той порции боли, страданий и нечистот, что поджидали меня. Но до сих пор помню пунктир своей тропы, ее опознавательные знаки и живительные колодцы в тенистых рощах.
Алая полоса ленты, распадающейся под точным движением тяжелых ножниц в моих руках. Бесконечные ряды картин – в таких же бесконечных вариациях интерьеров. Аплодисменты, вспышки и щелчки фотокамер, глянцевые развороты журналов с моим именем. Показы модных коллекций одежды, навеянных моим творчеством и изобретенным только мной переливом цвета. Широкая улыбка, веснушки, крепкое рукопожатие – это он, вероломный и корыстный жрец моего культа, вознесший свое божество на небывалую для современного художника высоту, и развенчавший его прилюдно. Рыжеволосая аристократка с тонким фруктовым ароматом и искристым колье на изящных ключицах – неужели она целует меня? Видимо, это девушка, в которую я буду безумно влюблен. Ленты дорог, тающие перед мощью моих блистающих автомобилей. Прибой океана и морские отливы, белый песок, похожий на сахарную пудру, прилипшую к мокрым ступням. Бесконечный дождь из цветов, превращающийся в наводнение, способное погубить. Лестница из банкнот, ведущая прямо в облака. Шелк простыней и жар поленьев, потрескивающих в камине – где-то в сердцевине Альп. Клетчатый, полосатый, еловый и кудрявый узор планеты, исчезающий в белесой пелене небес подо мной. Блестящие глаза, наполненные любовью, и… Нет, я же сказал, что не догадывался, как это все закончится.
Так что, у меня не было причин вспоминать детские утраты и глупые мечты о друге, читающем мои мысли и чувствующем мое сердце. Все, что перечислено выше – сбылось. Но по мере того, как душа обрастала самонадеянной плотью, не признающей поражений и молитв, в глубинах подсознания все отчетливее слышалась пульсация и всплески переживаний, живущих вне зависимости от моей воли, сами по себе. Поначалу я пытался игнорировать это явление. Затем привык к нему и стал считать побочным эффектом остальных своих особенностей. Иногда я сомневался в лучезарности происходящего и мыслил христианскими терминами, ужасаясь и предполагая за собой одержимость. Но ничто не мешало мне наслаждаться жизнью и творить, и чувство опасности быстро притуплялось.
Ощущалось это, как биение чьего-то сердца и поток эмоций, текущий сквозь мое сознание. Впервые оно снизошло на меня летом, когда мне было четырнадцать, и я летел на послушном и легком велосипеде по проселочной дороге. Больше мне нечего об этом сказать: я еще не дошел до тех слов, которые с жестокой точностью кисти мастера отразят всю правду.
Май. Весна переходит в лето, горло сжимается, сердце начинает бешено колотиться, ногти впиваются в ладони. Я не могу признаться тебе, хотя все вскоре станет явным. И пусть ты беспощадно игнорируешь мое присутствие на Земле, я боюсь, что ты каким-либо способом узнаешь об этом. Вдруг тебе попадется в руки дурацкий журнал, или третьесортный телевизионный канал вспомнит о покинутом всеми художнике, которого когда-то так украшала его юность. Но то, что кажется чудесным на заре молодости, уже не козырная карта зрелости, не так ли?
Мне горько, но под волной удушливого стыда я чувствую безжалостные уколы злости: а что мне оставалось делать?! Ты оставила меня, и я вынужден выслушивать твой бред о том, насколько замечателен тот, кого ты теперь любишь. Возможен ли хотя бы зыбкий паритет между мной, небезызвестным мечтателем-миллионером, и тобой – потерянной для меня и мира слабой девчонкой, творящей то, что я себе запрещаю? Ты унизила меня, и хвала Господу, что наша история спрятана там, где ее никто не найдет.
Но я пока что не могу тебе признаться. Так что позволь рассказать о другом секрете.
Я не сразу вспомнил об умершей сестре, когда увидел тебя. К тому времени она превратилась в мимолетный эпизод, и взрослый Николас забыл о магических пассах маленького Ники, поверив словам отца, убеждавшего в том, что никто не успел привыкнуть. Теперь она и для меня существовала, как младенец, не выбравшийся из своей колыбели. Мои фантазии, предположения и рисунки были забыты. И даже больше: озарение настигло, когда ты уже отвергла меня. Впрочем, в этом нет ничего странного. Очередная закономерность невыученного урока: только потеря заставила меня вспомнить о другой потере. И в тот момент моя боль удвоилась. Нет, не потому, что я вдруг заново пережил внезапную смерть маленькой Лиз, на которую я возлагал такие большие надежды – может, она и умерла от их тяжести? Но потому, что моя мечта во второй раз ушла в небытие.
Так постыдно все это… Мои слова, признания, моя непостижимая любовь к тебе. Какая тяжелая кара за собственное могущество – быть разделенным надвое. Обладая силой, которая другим видится только в фантастических фильмах и сказочных повестях, я выгляжу по-настоящему ничтожным, одноруким, кособоким, полуслепым. Я не могу жить для других, охватывать своей заботой больше людей, искоренять болячки общества, участвовать в политических марафонах, спасать детей и взрослых, испытывать патриотические чувства, развлекать себя грубыми мужскими играми. Быть мужчиной, пока тебя нет рядом. Ты – сердце, которое необходимо пересадить в мою грудную клетку. И пока этого не произошло, разве я могу стремиться к чему-то иному? Я проклят любовью – и это в наш, последний перед финишной чертой, век, когда она считается атавизмом, унизительно нарушающим работу человеческого организма. Разве можно представить, чтобы настоящий мужчина произносил такие слова: я проклят любовью?
5
Лила (санскрит) – термин, в буквальном переводе означающий «игра», «времяпрепровождение». Важное философское понятие в индуизме.
6
Отсылка к знаменитому роману Германа Гессе «Игра в бисер». Язык игры в бисер – тонкая комбинация музыки и математики, а главные герои романа – представители ордена интеллектуалов.