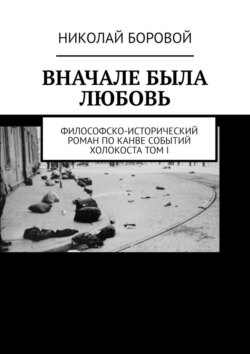Читать книгу Вначале была любовь. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том I - Николай Андреевич Боровой - Страница 10
ВЕЧНОСТЬ ОДНОГО ДНЯ
Глава восьмая
ЕСТЬ ПАТРИОТИЗМ, И ЕСТЬ «ПАТРИОТИЗМ»
ОглавлениеВысотка… Ее левый склон зарос густым сосновым лесом, а правый – уходит в огромное, теряющееся у горизонта золотистое поле, месяц назад скошенное, будто грибами поляна, покажется сверху, утыканное стогами сена. Далеко вправо видна деревня Величка. Войцех стоит, закрывши глаза и чуть запрокинув голову, и дышит прохладным, пропахшим сонмом запахов, землей и сеном, соснами и свежестью воздухом, и его навещают долгожданные, так нужные ему, наконец-то вымоленные капли покоя… Долго стоит, спокойно. Открывать глаза, начать видеть, и значит думать, не хочется – хочется продолжать тонуть в забытьи. Вот она, Польша, его Родина. Разная она, Польша, огромная. Скалы, покрытые снегом, чуть далее на юг, к словацкой и венгерской границе, сохранившие суровый средневековый облик города на севере, суетливая и огромная Варшава, древний и прекрасный Львов, холмистые и испещренные крутыми оврагами долины Подолья – всё это Польша. Но для него она в первую очередь именно то, что скрывают сейчас от взгляда веки – бесконечные и тучные летом поля, мелькающие вдалеке во множестве деревни с их патриархальным бытом, часто бывающие дремучими сосновые леса со сладковатым, щекочущим ноздри запахом грибов, и Краков – изящный, могучий, красивый, древний, словно сошедший с иллюстрации к книге рыцарских романов, на улицах которого могут померещиться старые паны в ферязях и меховых шапках с пером, галантно ведущие паннок под руку на обедню или рубящиеся саблями за их честь. Странно – Краков всегда казался ему гораздо в большей степени польской столицей и символом Польши в веках ее истории, нежели Варшава, он и не знает почему. Варшава стала центром, «обителью» польского духа и сопротивления, сто пятьдесят лет не прекращавшейся борьбы поляков за свободу и независимое государство… Тонула в крови и виселицах… Становилась ареной постоянных бунтов, ее предместья неоднократно превращались в руины… А вот же, для него символ Польши, его Родины – именно Краков… Он не жалеет, что родился в Кракове, под высью средневековых соборов, под громадой Королевского замка, возле помнящих рыцарей в латах домов и синагог. Польша… сколько поляков эмигрировали из нее за последние сто лет, не выдержав гонений, имперской неволи, виселиц и расстрелов, тюрем… Он родился евреем, в квартале 14 века, с детских лет его окружали не нежные, тоскливые песни, которые поют польские деревенские женщины, а люди в странной для поляков черной одежде, сидящие над потертыми книгами, обернутые в восточные напевы молитвы на предназначенном только для молитв языке, которые эти люди, раскачиваясь эдак и так, поют три раза в день всю свою жизнь, но он иногда чувствует себя большим поляком, нежели поляками рожденные. Поляком – значит гражданином, частью всего этого, такого разного, что зовется Польша. Чем-то, что от нее нельзя оторвать. Как страшна судьба изгнанника, у которого нет дома, какое счастье, что он, сын гонимого племени, не познал ее! Он – личность, брат всякому на этой земле, гражданин мира, но он – поляк, сращенный с этой страной плотью и кровью, душой и судьбой, часть ее, как микроскопический сосуд – часть огромного и дышащего жизнью тела, одно не противоречит в нем другому. У его судьбы и жизни есть дом, стены этого дома – города, улицы, проселочные дороги, поля и леса, вековые соборы и громады замков – словно зеркало и тени пройденных им лет, пережитых чувств, передуманных мыслей, свершений и утрат, и у этого дома есть чудное, напевное имя. Как можно не любить всё это, не прирасти к этому душой, сутью, судьбой? Как пел Мицкевич о Польше, почти и не бывав в ней, странствовавший где угодно, от бескрайних, выжженных степей Бесарабии до альпийских долин и берегов Сены, но не ходивший по улицам Кракова и Варшавы… Польша была для него «абстракцией»?.. Где-то да, но и нет, скорее – более чем осязаемой, подчинившей жизнь мечтой о свободе, о «почве» для судьбы, на которой та может расцвести и обрести покой, о «доме», в котором возможны достоинство и свобода… Эту мечту он, потомок подольских евреев, носил всю жизнь в своем сердце и воспевал на разные лады, подарив ей имя… Родившемуся и выросшему здесь, какому роду не принадлежал бы он, невозможно не любить это место и не ощущать себя в первую очередь поляком – неотделимой частью того, подобной мельчайшим и невидимым сосудам в плоти. Евреи, родившиеся в Польше – и такие как он сам, не чувствующие себя евреями вовсе, ощущающие себя частью человечества, и отдающие дань традиции предков зажиганием свечей на Хануку и посещением синагоги один раз в год, в вечер и ночь Судного дня, и полностью поглощенные традицией и похожие из-за этого на персонажей из старинных сказок, отращивающие пейсы и подворачивающие брюки на ногах в чулочках – всй равно чувствуют себя поляками, частью Польши, ощущают Польшу их домом. Нигде еврейство не обретало такого расцвета, не познавало таких страшных бед, не находило такой родной и прочный дом, как за шесть веков в Польше, и одно не противоречит другому – дом на то и дом, и всякое в нем может быть, хорошее и дурное, горькое и радостное, но домом от этого он быть не перестает. Уже лет тридцать как множатся те, которые говорят – у евреев есть другой дом, где-то в дальних песках, где крикливо поют муэдзины и толстомясые, подпоясанные широкими поясами и носящие на головах фески эфенди, плавясь под палящим солнцем, пьют из махоньких стаканчиков пахнущий пряностями кофе, и туда, мол, туда должны течь и ехать со всех сторон евреи, там они должны строить свою судьбу, за это должны бороться, на это должны быть готовы положить жизнь. Все это кажется ему глупостью, противно ему так же, как в юности – бесконечные отцовские бормотания над Талмудом и напевные раскачивания из стороны в сторону во время молитвы. Но даже если бы не стал он самим собой, светским и мыслящим человеком, если бы вышел из него, как и должно было быть, не имеющий никакого лица и никакого «я» ортодоксальный и благочестивый еврей, один из тех, которые, как детали с конвейра или капли воды, похожи друг на друга из дома в дом и города в город, из века в век и страны в страну, кажутся часто живой плотью, предназначенной воплотить какую-то одну и неизменную, выношенную коллективным умом химеру, то и в этом случае, как большая часть из тех, он ощущал бы себя не только евреем, но и поляком, частью огромной, красивой, имеющей великую и трагическую историю страны, любимой до трепета страны. С ним всё просто – ему чужда, нравственно и до глубины души чужда, в наиболее тяжелые минуты даже нравственно ненавистна община, в лоне которой он, первенец великого раввина и «гаона» поколения, родился в преддверии нового века. Он никогда не стеснялся говорить об этом, ибо с какой-то последней внутренней уверенностью считал и считает себя правым. Он – личность, брат всякому на этой земле, если тот человек, и он – душой и домом судьбы поляк, и одно не мешает другому, Мицкевич со Словацким и Сенкевичем, с Вейнявским, Шопеном и Матейко, так же дороги и близки ему, как Шекспир и Стендаль, Малер и Чайковский, Достоевский и Толстой с Сен-Сансом, Низами и Хайямом. У личностного нет национальных, временных и культурных границ, оно общечеловечно, распознает себя в памятниках отдаленных на тысячи лет эпох, в речи на совершенно другом языке, оно сущностно в человеке так же, как возвышается над границами нации и рода, гораздо больше их. С ним самим всё просто – как русскому писателю, аристократу и философу Льву Толстому ни что не мешало ощущать себя и сыном человечества, и истинно русским, ему, Войцеху Житковски, давно уже переставшему называть себя даже в мыслях Нахумом, ни что не мешает ощущать себя и открытой каждому человеческой личностью, и поляком, и ни что вместе с тем не побуждает стесняться принадлежности к древнему восточному племени, как конечно же ни что и никогда не заставит срастись жизнью и судьбой с этим племенем, с верой, которой то живет. Он не скрывает своих корней и если суждено ему, обрезанному еврею, быть забитым в погроме – он готов и не задрожит, разделит судьбу тех, с кем довелось разделить род и ничем до конца не постижимое, не соотносимое ни с какими рамками таинство своего неповторимого прихода в мир. Однако – он никогда не позволит этим «корням» посягнуть на него самого, на его душу и ум, на его свободу и совесть, предъявить какие-либо права на его неповторимую, единожды и навечно данную судьбу и жизнь. Он – свой собственный и принадлежит себе, а не древнему, бестрепетно глядящему в вечность и глубины праистории племени. Одно или другое – или я как личность и человек, или я «еврей», как меня заставляют быть и ощущать себя таковым, отказавшись от всякой личности и свободы, от права решать, принадлежать себе и быть ответственным за себя, иметь свою, личную и человеческую совесть – единственный подлинный закон своей жизни и судьбы, превратив свою жизнь в роль, прочерченную абсурдными тысячелетними правилами, принеся себя жертву этим правилам, призванным олицетворить абстрактное национальное «я», подчинив таинство своей неповторимой жизни необходимости нести их. Одно или другое, одно не совместимо с другим – он, урожденный Нахум Розенфельд, первенец великого раввина и «гаона» Мордехая Розенфельда, потомок безвестных еврейских переселенцев 14 века, понял это в семнадцать и принял это, хоть оно и означало страшное – разрыв с «истоками и корнями», пропасть между собой и теми, кто подарил тебе жизнь, сопровождал твои первые шаги по миру. И совершил страшный выбор. Он – поляк, часть и гражданин страны, на языке которой говорит и пишет, думает о жизни и смерти, о самом себе и сути своих решений, ставшей для его неповторимой жизни и судьбы домом. Он не хочет и ни за что на свете не согласился бы, наверное, променять этот дом на что-нибудь, он – поляк и принадлежит своей стране, и если завтра этой стране будет грозить опасность, и ему скажут – возьми в руки винтовку и иди защищай свой дом перед теми, кто пришел в него с насилием и смертью – как не будет ему мучительно и страшно, как не движут им любовь к жизни и ближнему, он пойдет и будет делать то, что должен. Но в своей последней человеческой сути он – нечто большее чем всё это, таков же, как всякий рожденный под солнцем человек, и судьба его такова же, как судьба всякого, родившегося человеком – трагична, полна мук и испытаний, одиночества и дилемм, венчаема смертью, и он знает обо всем этом, помнит и знает очень хорошо. И если скажут ему завтра – чтобы быть настоящим поляком, достойным сыном и гражданином своей страны, желай этой стране процветания и новых земель, возьми в руки винтовку и иди убивай русского, немца или словака, топчи бунтующего украинца (как кричат подобное уже многие годы немцам, и достигли своей цели), он сядет на землю и не пойдет никуда, пусть хоть казнят его за предательство, ибо он есть нечто большее – личность, человек и сын человечества, и его разум и совесть, против которых невозможно преступить, скажут ему, что делать этого нельзя. Из-за этого он возмущенно выступал в 36 году, когда обнаружились планы захвата польской армией Данцига, и в прошлом году – во время фарса «подписания мира» и уничтожения независимой Чехословакии. Любовь к родине и патриотизм, гражданская и национальная лояльность не должны и не имеют права становиться над ценностью чьей-то свободы, над императивами совести и требованиями справедливости, над истиной, наконец. За эту истину профессор Житковски быть может готов умереть, ей же богу. Все это сложная, важная дилемма, подчас страшная дилемма, которую, хочешь или нет, в жизни и истоках судьбы приходится решать, дилемма не просто идентичности, а совести и совершенно конкретных, быть может востребованных «здесь» и «сейчас» поступков, у этой дилеммы много граней… это даже не дилемма, а сонм дилемм… Все это похоже одно на другое, зачастую одно от другого почти не различается, и нужно иметь острый и критический ум, честную и непререкаемую в ее императивах совесть, чтобы в последний момент провести черту и не пасть в бездну… Вот тот же Мицкевич, гордость польской нации и символ ее борьбы за свободу, потомок шляхтичей и крестившихся польских евреев, поэт, которого поляки более чем кого-либо ощущают плоть от плоти своим – да разве же не прошла эта дилемма через его жизнь и творчество, душу и ум красной, полной мучений линией? Разве же не решал он для себя всю жизнь мучительно – еврей или поляк, не искал с надрывом возможности быть и ощущать себя и тем, и другим, не поверил блаженно в конце пути, что это возможно, и с такой верой в сердце умер? Разве не пронес он эту дилемму в сердце через всю свою скитальческую, видевшую и знавшую много судьбу, не пытался отчаянно и мучительно ее разрешить, делая героев своих поэм, борцов за свободу польского народа, хранящими верность традиции и самосознанию евреями, провозглашая «Израиль – старший брат с равными правами», гневно восставая против своих великих духом собратьев и соратников по борьбе, когда те выставляли еврейство как что-то враждебное христианству и Польше, делу польской свободы? И он был прав – не только образованные и светские, а даже те ортодоксальные, погруженные в традицию и религию предков, похожие на персонажей из былин евреи, с которыми профессор Житковски, урожденный Нахум Розенфельд, сын и внук великих раввинов, по яростному велению совести, осознания себя и личностного достоинства, не хочет иметь ничего общего, ощущают Польшу своей родиной, домом своих жизней и судеб, корнями их по особенному состоявшегося исторически образа жизни, евреями и поляками разом, одно не противоречит другому… С дилеммой «еврей» или «личность», «я сам», верный «традиции предков» еврей или свобода, право человека быть личностью и самим собой, принадлежать себе и за себя отвечать, жить так, как требуют его разум и совесть, гораздо сложнее, трагичнее, бескомпромисснее… вот тут и вправду – то или это, третьего не дано, как не желай. Религиозное еврейство, собственно – это страшный своим совершенством образчик, механизм тоталитарного существования социальной массы, стирания в человеке всякой личности и самобытности, всего подлинно нравственного, что связано с его свободой и личностью, способностью решать и был лично ответственным деяниях и образе жизни, а не рабски покорным установкам, правилам, освященной веками и муками традиции, авторитетам веры и т. д. Слепой верности и покорности «воле божьей», то есть Закону и традиции, морали и установкам призванной тотально довлеть общины – вот, что в основе требуют от человека еврейство и такая родственная ему восточная религия как ислам, всему этому призвана учить история Авром-Овину и Ицхока, не даром же великий раввин и праведник Мордехай Розенфельд, так любил сидеть над ней с благословенным сыном-«первенцем», которого нарек Нахум. Это страшно, потому что означает полное стирание и вымертвление из человека свободы, личности, ответственности за себя – того, что в нем человечно и нравственно, что вселяет надежду и веру в человека. Это страшно, потому что представляет собой самую суть тоталитарного общества, в котором будучи якорбы «моральным», думая и поступая «как все», человек может при этом быть орудием и свидетелем самого преступного. Бесноватый ублюдок точно так же требовал сегодня от нации и каждого слепой верности и покорности – его собственной воле или воле его сподвижников. «Делай, что велят, потом спрашивай» – так сказано в трактате Мишны, и если бы бесноватый знал об этом, он проникся бы этой идеей глубоко. Внутри еврейской общины и освященного традицией образа жизни для личности, свободы человека и его ответственности перед собственной совестью, его права решать самому и распоряжаться во всей полноте ответственности свой жизнью и судьбой, сознавать и нравственно ощущать общее родство со всеми людьми, места не остается, одно или другое. И это тоже страшно, потому что речь идет о том, что человечно, определяет человечность. Судьба и жизнь, мир и душа, ум и поступки, цели и ценности еврея принадлежат его народу, целям его народа, благу и процветанию, сохранению в веках его народа, закону и традиции, которой живет его народ, во имя своего народа и дела оного любой еврей во все времена приходит в мир, и ценность его измеряется именно этим. Нет человека как личности, самого по себе, и никакой ценностью сам по себе не обладает. О, бесноватый ублюдок был бы в восторге, иногда кажется, что он пишет свои прокламации после хорошего урока в Бейс-Мидройше! Это правда, страшная правда, и первенец великого раввина, польский профессор философии не стесняется и имеет мужество произносить ее вслух. Всё это совершенная формула тоталитаризма и того подлинного нигилизма, который состоит в нивеляции ценности и низложении личного, в безраздельной гегемонии коллективного над единичным и личным, в утверждении высшей ценности коллективного и всеобщего, и потому – зачастую предстает идеализмом, той или иной формой «служения идее». Гегемония коллективного и национального над единичным и личным – тотальная, абсолютная, определяющая жизнь и судьбу человека, его цели и поступки, его ценности, отдельный человек – ничто, его народ – все. О, боже – так разве не с этого же, чуть ли не дословно, начался почти двадцать лет назад немецкий нацизм?? Таинства неповторимой личности человека, высшей ценности личности нет, есть лишь род, драмы и трагедии рода, благо и цели рода, закон и судьба рода, процветание рода, его мораль и истины. Уродство и ад праистории, дожившие до века «науки и прогресса». Все это правда, и он понял правду давно, у него нет иллюзий. Это очень горькая, жестокая правда, принятие и понимание которой требует недюжинного мужества. Потому что она означает, что твои отец и мать, твои сестры и братья, все те, с кем ты пошел свои первые шаги по миру – уроды, и тебе с ними не по одному пути, и пропасть между вами не преодолима вовек, и так это непререкаемо, по совести, против которой преступить как известно нельзя. Потому что эта правда означает нравственную смерть для тебя тех людей, с которыми твоя жизнь должна быть связана неразрывно, их смерть внутри тебя, в твоей душе. Потому что страшные муки еврейского народа, бесконечные реки пролитой в тысячелетиях еврейской крови, сурово укоряют эту правду, смотрят на нее, восстают против нее, требуют не усомниться в ней, а безоговорочно и покаянно ее отвергнуть. Но правда – это правда, против нее нельзя идти, как трепетны и священны ни были бы заблуждения, как не побуждали бы к заблуждениям приличия. Правда – какова бы она не была, горькая и страшная, уродливая и трагическая – вот единственный возможный путь свободного и настоящего человека: так можно было бы переиначить слова русского писателя Максима Горького, «пророка русской революции», странно умершего три года назад. Правда – это правда, и она, как совесть и разум, свобода и право быть собой, превыше всего. Превыше истлевших всеобщих святынь, покрытых сенью веков «устоев», самых трепетных предрассудков, верность которым подчас требуют сохранить самое доброе и искреннее в тебе самом. О, как же хочется верить в иллюзии и не видеть правды, если ее лицо уродливо и пугающе… Правда безжалостна и требует быть безжалостным от того, кто решается идти ее путем. Правда требует мужества и безжалостности, и в первую очередь – к самому себе и собственным иллюзиям, ибо может быть страшна и уродлива. Тот же «русский пророк революции» писал, что самые страшные антисемиты встречались ему среди евреев, именно среди евреев… О, Войцех Житковски, урожденный Нахум, первенец великого раввина и «гаона» поколения знает, о чем идет речь, понимает смысл этих слов, еще как понимает! Как часто за свое отрицание по совести, которого хоть убей или приставь дуло к виску – а не минешь и не предашь, он слышал в спину полное отвращения, презрения, уничижительности – «антисемит», слышал и от «своих», и от «чужих». «Свои» с ненавистью и гневом отвернулись, прокляли, «чужие» – обливали презрением, ибо точно так же отвергали изменивших и колеблющихся «своих» и стояли на том, что человек должен быть «чьим-то», быть со «своими», какие они уже там есть, и в этом его судьба, и не должно быть иначе. Он всё это вынес, вытерпел, хоть ценой этому были зачастую тяжкие и самые повседневные, ощущаемые кожей, желудком и болью, житейскими бедами и мытарствами испытания. Ему приходилось в жизни платить за свою свободу, за право на истину и совесть, на личность, на то, чтобы поступать как считаешь должным и правильным сам. Он плевал и на «своих», и на «чужих», и на крики «антисемит» и «ничтожество», и на полные презрения взгляды, и на проклятие отца, и на демонстративно, как велит закон, отворачиваемые в сторону головы соплеменников, жителей Казимежа – соседей, родных, друзей детства. Он – обрезанный еврей, рода храмовых священников, сын великого раввина и «гаона» поколении, он никогда не отказывался от этого, евреи – его народ, и отношения со своим народом и верой предков, он в своей совести и душе решит как-нибудь сам, без посторонней помощи. Лишь то есть правда, верность чему человек имеет мужество и решимость подтвердить лицом и судьбой, поступками и испытаниями, его личной ответственностью. Отвечай за себя, следуй своей совести и тому, что считаешь правдой, плати за это, что должно, и пропадай всё остальное, и пусть муки пойдут на муки, решимость на решимость, цена на цену. Умей страдать в испытаниях – это главное, и не бойся, если совесть требует выглядеть в чьих-то глазах «подонком», «отступником» и «предателем», а разум – сумасшедшим. Вся трагическая сложность и противоречивость отношения еврея к своим «истокам и корням» связана с тем, что эти «корни и истоки» посягают на то в существе родившегося в лоне еврейской общины человека, на что не имеют права – на его душу и ум… на его свободу и совесть, на его ничем не потеснимую ценность как личности, на само его неотъемлемое от жизни и прихода в мир право на личность и свободу, право принадлежать себе, решать и распоряжаться своей судьбой. Душа еврея – душа его народа: это произносят со слезами и трепетом, как последнюю истину и тайну мира, его совесть и мораль – традиция и закон предков, его истина – тщательно передаваемые из поколения в поколение предания, раввин решит за него и предпишет, как ему правильно жить и поступать, а еще раньше раввина это сделали за них обоих тысячелетние поколения предков, ведь у еврея может быть единственный путь – «путь отцов». Рабство, обрамленное в личину святого и жертвенного благочестия, возведенное в мораль и последнюю истину, но на самом деле способное скрывать за собой ад. Всё это мы слышали сегодня утром, в льющемся из репродуктора лае, только они еще не пришли к такой основательности и убедительности. Община тотально довлеет над отдельным человеком, его судьбой, жизнью, совестью и умом, ценностями и поступками, расстворяет его личность, всякое осознание им себя личностью и человеком, чем-то «отдельным» и неповторимым, парадоксально общным в этом не со своим только родом, а со всеми людьми. Так это в лоне религиозной общины, а если человек отдаляется от нее – кричат, что он перестал «быть евреем», отошел от предначертанного, выбранного ему самим господом боженькой пути. Самая тоталитарная из мыслимых форм существования. Либо ты человек и личность, как личность – сын человечества и брат каждому, либо ты «еврей» в том, как это понимается традицией и Законом, другого не дано, и подобное становится драмой «бунта», отрицания, противостояния человека собственным «истокам и корням», если личность в нем просыпается. А «другое» – это лицемерие, изощренное и лживое ханжество Мордехая Бубера, которого Войцех терпеть не может. В этом причина, это порождает противоречия, профессор Житковски давно понял это, безусым юношей, и какие бы там словеса не произносились, какие бы по настоящему страшные муки предков не глядели тебе в душу с укором, это противоречие справедливо и беспрекословно. Правда – это правда, она превыше всего и ценна нам такой, какова есть, и над ее императивами встать ничего не может… Что должно наверное быть «над всем», если в голос орут, что над всем непременно должны быть «родина» и «нация», то почему бы не быть над всем правде? Жертва кажется правой априори… Евреи приносили во имя их веры и идентичности страшные жертвы, многие века. И потому их вера кажется неоспоримо святой и правой всякому, желающему подвести черту кровавым средневековым предрассудкам… Однако, правда превыше всего и она говорит о том, что вера его предков – рабство и нравственное уродство, архаичное и безраздельное торжество «коллективного» и «родового», апофеоз безликости и тоталитаризма. И какими бы ни были жертвы, они не могут ее оспорить. В этом мире много предрассудков, лжи и заблуждений. И евреи, если желают, в конечном итоге имеют право на собственные, вполне обладают правом жить ложью, которая им дорога – это не причина гнать и убивать их, отнимать у них дом и честно заработанное, как не делают это ни с мусульманами, ни с индусами, ни с кем-то другим. Дилеммы «корней и истоков», «национальной сопричастности», «долга перед родиной и родом»… О, как же они сильны и справедливы, сложны и неоднозначны… И как они зачастую, при всей их принципиальности и обобщенности не просто трагичны, а становятся мукой совершенно конкретных, наполняющих повседневность решений и поступков, нравственного выбора, который должен совершить человек! Вот он, Войцех Житковски, отверг «корни и истоки» не из страха, а по совести и нравственному выбору… И это не облегчило, а усложнило его жизнь… И он первый готов признать, что в «святой вере» его предков очень многое принципиально «не так»… И что же – это спасет его, если завтра на улицы Кракова придут ополоумленные и начинающие входить во вкус национального величия «колбасники», для которых еврей – кровный и не имеющий права на милосердие враг? О нет, не спасет, да ладно это – а нужно ли будет ему такое спасение, принял ли бы он его, даже если бы оно было ему обещано? Конечно нет. Он – человек, сын человечества и гражданин мира, он личность и польский гражданин, любящий собственную страну, но он – еврей, родился евреем в семье великих раввинов и был обрезан, никогда не скрывал этого. И хоть его собратья про роду и вере ему глубоко и по совести чужды, если завтра его, из-за его «корней и истоков» поведут умирать, он примет судьбу такой, какова она, не убежит и не будет униженно и напрасно вымаливать спасения, показывая мол, смотрите-ка, я хоть и еврей, но «другой» и сам «не приемлю». Он, которому вера его народа глубоко противна, по сути и нравственно противна, с давних пор яростный враг этой обожествляющей в человеке «родовое», «коллективное» и «национальное» веры, да вообще враг всяких «родовых меток», которые пытаются навесить на человека, замаскировав и предав забвению таинство неповторимой личности, быть может будет обречен умереть, вместе с другими быть принесенным в жертву на алтарь «истин рода», и готов принять его судьбу со всей ее абсурдностью и дьявольской усмешкой. А Феликс Мендельсон, внук великого выкреста – много ли было в нем «еврейского», «сопричастности корням и истокам», не стал ли он знаковым для немецкой культуры композитором, не был ли при этом страстно и глубоко исповедующейся, ставящей последние вопросы личностью? И немцем, и итальянцем, и сумрачным судьбой «горцем», и англичанином – человеком, который живет и дышит общим для всех людей? А много ли «еврейского» в русском философе Льве Шестове – выкресте, у которого сегодня есть ревностные последователи даже среди французов? А не был ли истинным немцем в музыке еврей-композитор Мейербер, истинным испанцем – Альбенис, истинным русским в живописи – художник-еврей Исаак Левитан? Да разве хватит места для бесконечного списка великих имен? А важен ли сам этот вопрос, разве нет в человеке чего-то, куда более сущностного, важного, возвышающегося над «национальным», над условностью «корней и истоков», связанного с его личностью, и разве должно одно препятствовать осуществлению другого? Разве имеет право «родовое», арахичное, из глубин праистории и доныне не изжитое, хоть раз и навсегда отвергнутое, низложенное две тысячи лет назад, противоречить сущностно и собственно человеческому, личностному в человеке, препятствовать его осуществлению? Как же принципиальны эти дилеммы!.. И как зачастую они конкретны в человеческой судьбе, хоть бы и в его собственной… Прежде всего – именно в его, ибо его самого они заставили совершить тяжелый, безжалостный и бескомпромиссный выбор, пойдя против «святого», раз и навсегда предпочесть в себе личностное и общечеловеческое «родовому» и «национальному», свободу и закон совести – освященной вековыми муками традиции, которой живут братья, отец, мать, все вокруг… Ведь именно его эти сущностные, неискоренимые, изначальные в судьбе человека дилеммы, встающие и обнажающиеся перед человеком вместе со зрелостью духа и осознанием себя, в конфликте с самым близким судьбе заставили раз и навсегда решить, что истина и справедливость, совесть и ее императивы, свобода и право быть самим собой, ценность личности каждого человека беспрекословны и стоят над всем, выше всего, и в этой своей безусловности и абсолютной высоте не должны считаться ни с чем, пусть даже с самыми трепетными иллюзиями, должны быть безжалостны, и ответственность за такой выбор несет лишь он сам. А коллега Войцеха, легендарный профессор-лингвист Леон Стернбах, до сих пор, в свои семьдесят пять, по шляхетски браво закручивающий к верху седые усы, сын виленского банкира-еврея и выходец из образованной и светской семьи – разве же условности его рождения помешали ему стать великой личностью и выдающимся исследователем, знатоком классической культуры и гордостью польской науки, ощущать себя поляком и человеком, гражданином? И разве справедливо, правильно было бы, если бы помешали? Разве должно быть так, чтобы гражданство человека, его принадлежность «стране и роду», посягали на его человеческую совесть, личность и свободу, предъявляли права на его душу и ум, требовали «присвоить» его неповторимую судьбу и жизнь? Разве нет в этом принципиального противоречия, решение которого не должно вызывать сомнений? В человеке есть то личностное, сущностное и собственно человеческое, что общечеловечно и больше, чем «национальное» в нем, определенное его «родом», а так же «политическое» и «социальное», и не имеет право одно посягать на другое, меньшее и вторичное – требовать от сущностного и отрицать таковое, и если происходит это, то само оно безоговорочно должно быть отвергнуто и презрето, чтобы там ни было. Любовь к родине и патриотизм – это желание, чтобы родина была честна и человечна и личность, судьба, жизнь и свобода, достоинство и возможности неповторимого человека были в ней ценностью. Любовь к родине и нации не имеет права противоречить твоей человеческой совести и посягать на нее, противоречить истине и разуму, отнимать у тебя свободу, короче – отрицать в тебе личность и человека, брата каждому. Бесноватый ублюдок тоже призывал сегодня немецких солдат идти убивать во имя «любви к народу» и «величия родины»!.. Вот тот же Лев Толстой, уж на что русский человек, но разве не восстал он против святой для всякого русского веры и церкви, когда почувствовал, что его совесть и разум требуют от него другого и в этой дилемме – его человеческая свобода? Разве не восстал он яростно против самой идеи патриотизма, почувствовав, что побуждает она людей забыть свое общечеловеческое родство, высшую ценность отдельного человека и закон совести и любви, становится подспорьем в манипуляциях, которыми власть имущие разогревают толпу на убийство и смерть, во имя собственных целей? Разве не решался говорить он об этом в голос и открыто тогда, когда его страна, кажется, одной истерией «патриотизма», одним бесконечным лязганьем слов «родина» и «патриотизм» жила? Разве в течение всей своей долгой жизни – от рассказов о кавказских событиях до последних публикаций – не обличал он откровенно и безжалостно, с позиций человеческой, личной совести, справедливости и разума преступления, творимые его страной и согражданами? Разве не решался, не рисковал в безжалостной верности совести и правде, с вдохновенностью и гениальностью пера, изображать русских врагами, оккупантами, жестокими преступниками и казнителями свободы там, где они и вправду такими были, выходить за пределы всех спаивающих толпу, глушащих разум и совесть патриотических лозунгов и славословий, задавать страшный, ни с чем не считающийся вопрос «кто прав», глядеть на события и их суть с позиций «другой стороны»? Разве не запечатлел он этим навечно мужество в самый разгар конфликта и противостояния, в бурлении спаивающего, глушащего совесть и разум патриотического экстаза, думать о «другой стороне», смотреть на происходящее ее глазами и с ее позиций, усомняться в справедливости того, что объединяет окружающих в событиях, дает им ощущение своей правоты и обосновывает их претензии? Разве не этого вечно и требует от человека его личная совесть, и не именно ли это – решимость сомневаться в том, что спаивает и объединяет всех вокруг в далеко не бесспорных по смыслу деяниях и событиях, в «одной для всех» вере, сплачивающей общество вокруг манипуляций и замыслов политиков – вечно же клеймится «предательством»? Разве не решился русский философ-аристократ указать ясно, что в человеке есть большее, сущностное, стоящее над национальным, конфессиональным и гражданским, над «патриотизмом» и «верностью интересам родины» – личность, свобода, совесть, разум и стремление к истине, и против этого и его безусловной ценности и императивности нельзя преступать? Разве не решился Лев Толстой провозгласить, что долг и императивы совести, долг человека перед самим собой и всяким другим как таким же, как и он сам, любовь к другому как неповторимой личности, сознание общечеловеческого родства людей и их единства в одной, бесконечно трагической судьбе, безусловны и призваны беспрекословно возвышаться над долгом «патриота», «сына собственного народа», «верующего в то, во что верили отцы и деды»? Что личностное в человеке общечеловечно, выше и приоритетнее, императивнее в нем «национального», «родового», «гражданского» и «конфессионального», при всей национальной и культурной разности людей и вопреки ей, должно их объединять, призвано выступить тем, что поверх всего возможного способно сроднить и объединить их? Говоря проще, что именно личностное в человеке, совесть и сознание самого себя, сознание всякого другого как личности и такого же, как ты сам, диктуемая этим сознанием и законом совести любовь к другому, ощущение и понимание одной для всех людей трагической судьбы, при всем том бесконечном, что разнит людей и противопоставляет их друг другу – от «рода» и «истоков» до «патриотического» и «конфессионального» долга, должно стать объединяющим их началом? Разве не провозглашал и утверждал он пророчески в качестве этого объединяющего людей начала то по своей сути нравственное и личностное, обще и сущностно человеческое, что спустя несколько десятилетий боготворимый и популяризируемый самим профессором Житковски Мартин Хайдеггер, загадочный и великий немецкий философ, назовет таким странным, трудным для восприятия и понимания словом «экзистенциальное»? Разве не решился он, следуя собственной совести, плюнуть в «священных коров» и идолы всеобщей морали и сказать, что ценность неповторимой жизни и судьбы, личности и свободы отдельного человека, стоит и над лозунгами «патриотизма» и «блага нации», и над верностью человека лону его конфессии, и над ослепившей ум эпохи химерой «прогресса»? Разве не поэтому он остался в одиночестве, преданный анафеме, ибо со времен Сократа известно, что подобные слова и вещи социально опасны, как в целом опасны для общества в человеке личность и критический разум, совесть и свобода? А не обо всем этом ли говорит сегодня философ и гуманист Мхатма Ганди, призывающий без оружия и насилия бороться за свободу своей страны, когда ставит дилемму – «что же мне делать, если моя совесть требует от меня иного, нежели традиция моих предков?» Вот дилемма, простая и ясная, страшная как сама жизнь и смерть, и поди разреши ее! Что же делать, есть она, эта твоя совесть, что-то беспрекословно велящая тебе, чего-то от тебя требующая, противопоставляющая тебя социальной среде, «морали всех» и устоявшимся святыням, и отступить с ее пути значит предать себя? Что же делать, если есть у человека личность и свобода, говорящие голосом совести, налагающие на него бремя ответственности и до последнего вздоха, до последней решимости терпеть муку, противопоставляющие его миру и делающие его чуждым среде?.. О, как же давно эти дилеммы стоят перед ним лично, в его собственной судьбе!..
Думая всё это, мысленно произнося это в диалоге с собой, Войцех уже давно не стоит с закрытыми глазами, дыша ароматом сена и сосен – он то ходит напряженно, положив руки в карманы, вокруг машины, то начнет подбирать с проселочной колеи камни и швырять их в даль, словно облекая внутренний диалог в спор с ней и требуя от нее ответа, то как сейчас, сядет на корточки возле капота машины, облокотив спину о радиатор и свесив руки между ног, и упрется взглядом в землю, словно бы трещинки на земле, иссохшей в августовской жаре – это плетущиеся в нем и текущие неизвестно куда мысли…
«Химеры патриотизма»… как часто и с убежденностью он произносит это. И разве же он в самом деле не прав и не должен рисковать, произнося это, так противоречащее общему настрою коллег и студентов, сограждан в их массе, почти ультимативному требованию к академическим институтам властей? Разве испокон веков самое преступное и страшное не творилось под лозунгами «патриотизма» и «любви к родине»? Разве не «патриотизмом» вечно побуждали людей идти убивать и умирать, отнимать у кого-то свободу, достоинство, имущество, преступать против совести? Разве не им вечно сплачивали в политических манипуляциях толпу, делая ее покорной и слепой, готовой на преступное и страшное, душащей в себе последний, способный остановить перед бездной голос совести и разума? Разве не слово «патриотизм» вечно делает толпу слепой и безразличной к праву на жизнь, свободу и родину кого-то другого, и именно с этой целью звучит непрестанно, словно ставшая безумием «мантра»? Разве не под патриотические вопли толпа становится монолитом, и в этом – покорным, безжалостным орудием преступной воли? Разве не с «пеной патриотизма» у рта, не под крики о Великой Германии, которая «превыше всего» и «требует жертв», бесноватый ублюдок сегодня утром оправдывал начало кажется новой мировой бойни, обещающей ад на земле и миллионные жертвы? Разве не патриотической истерикой многие годы он разогревал и сплачивал толпу, делая ее готовой на насилие, убийство и смерть – на то, чтобы во имя величия и процветания собственной родины, бестрепетно идти и отнимать родину у кого-то другого? Разве хитрый и умный, исключительно трезвый негодяй, властвующий ныне на родине Рафаэля и Караваджо, не той же патриотической истерикой, не тем же самым бесконечным, превратившимся в гипноз произнесением «патриотизм», «родина над всем», «жертва во имя величия родины», сумел сплотить вокруг себя толпу гораздо ранее, и точно так же сделал ее вполне готовой на кровь, только пока умеренную, точно отмеренную его целями и расчетом, а не безумную? Разве оба не лязганьем слов «патриотизм» и «величие родины», не самой идеей патриотизма и истерикой в ее внедрении в умы, сплотили толпу вокруг своей воли и преступных авантюр, сделали ее слепой и безумной, душащей и голос совести, и осколки некогда бывшей морали, готовой одобрить или совершить практически всё, самое немыслимое и страшное?.. Разве не всегда было так? Разве чем с большим пафосом не произносилось слово «патриотизм», тем более страшные и преступные, безумные деяния оно собой не оправдывало и за собой не скрывало, и не всегда это было так, и не были всегда истерия патриотизма и экзальтированный пафос в насаждении самой его идеи условием совершения и оправдания, обоснования таких деяний? Разве не сказал об этом сто лет назад еще один великий и знаковый немец – поэт-еврей Гейне? Разве сто пятьдесят лет назад Кант, со всей дотошной ясностью и стройностью его рассуждений, не указал на то, что массы нужно отучать от привычки к ревностной приверженности своим нациям и правителям, ибо именно это становится причиной войн и готовности масс людей убивать друг друга, что в людях надо развивать ощущение наднациональной общности, чтобы катастрофу войн стало возможным разумно, на основе подчиненной разуму воли предотвратить?..
«Так что же такое патриотизм?» – при этом мысленном вопросе к себе Войцех снова вскакивает, раздраженно и взволнованно начинает шагать по дороге, останавливается, пинает носком туфля камешки – «аффект обезумленной политиками, экзальтированной толпы, делающей ее покорной манипуляциям и готовой совершать преступления, словно забыть о том, что в минуты трезвости требуют совесть и разум? Та химерическая и в основе преступная, порочная идея, которая спаивает и сплачивает толпу, превращает ее в монолит, позволяет оправдать немыслимое, нейтрализовать остатки моральных представлений и утвердить в качестве морали зачастую почти не человечное, безраздельное торжество и несомненность которой расстворяют в экзальтированном единстве толпы голос разума и совести, последнее ощущение ценности мира, человека, жизни?» Химера, как всегда профессор Войцех Житковски и говорит, которая используется для того, чтобы вымертвить из общества личность, свободу и совесть, последнюю близость человека к нравственным основам и истокам его бытия, манипулируя которой, ценность жизни и судьбы, свободы и личности человека растаптывается в гегемонии «коллективных» ценностей и целей, позволяет им безраздельно себя утвердить? Лицемерие и ложь, которые дают возможность от имени морали, высоких целей и идеалов, возвышенных порывов и побуждений всех, растоптать разум и совесть, ценность личности, отдельной жизни и судьбы, превратить всё это в «ничто»? Циничный лозунг, под бряцание которого позиция совести становится предательством и безнравственностью, сохраняющий разум воспринимается и называется сумасшедшим, безумие превращается в социальную норму, и охваченная им толпа готова отстаивать нерушимость, святость подобного положения вещей, власть над ней слепоты и этого безумия пролитием крови и уничтожением всякого иного, мыслящего и видящего иначе? Всё это так, несомненно! Войцех лишь ловит словами шквал несущихся в сознании, рождающихся и словно уносящих его самого мыслей. О боже… где же найти силы вынести понимание всего этого, не дать ему разорвать грудь?..
Но как же тогда быть с тем, что он чувствовал сейчас, при взгляде на бесконечные польские поля, в Университете, во время речи пана ректора? А как же действительно святая необходимость отстоять свою землю, если пришла беда, брать во имя этого в руки оружие, жертвовать, всё так – жертвовать во имя этого многим и жизнью? Ведь это и есть патриотизм, любовь к Родине и беспрекословность требований и побуждений этой любви… И всё это вместе с тем неизменно используется именно так, как он говорит – во оправдание преступных целей. И самое страшное, что и то, и другое называется одним словом, облекается в одни идеи и лозунги. И различить одно и другое подчас невозможно… Бесноватый ублюдок тоже призывал сегодня жертвовать во имя процветания Великой Германии, и с нынешнего утра поляки умирают, оставляют сиротами детей, жертвуют главным – жизнью, чтобы отстоять свою землю и свободу, расхлебать многолетние лающие призывы ублюдка к «патриотической жертве»… Безумие, реальность кривых зеркал, в каждом из которых стократно отражается глумящаяся ухмылка абсурда… И разобраться посреди этого, кажущегося бесконечным мрака, найти в нем путь, «маяк» и свет, подтвердить обретенное решениями и жизнью, выбором и поступками, человек может только сам, и единственная опора ему в этом – его разум, правда требований его совести и непререкаемость его внутренних побуждений, его способность на ответственность за себя… То «патриотизм», и это «патриотизм»… Только одно – массовое безумие, почва и маска зла, а второе – одиночество и мужество совести, великий и чистый порыв людей, трагическая в часы испытаний моральность. Одно слово вмещает в себя полярные явления и смыслы… Ведь есть при этом и настоящий патриотизм – конфликт и отверженность, решимость во имя любви к собственной стране и стремления к ее человечности, обличать ее пороки и преступления, властвующую над ней ложь, слепящие ее разум и совесть химеры… Позиция совести и критического разума, мужество противостояния экзальтированной толпе с ее иллюзиями, причем невзирая ни на что – патриотизм может быть и этим, как правило это и есть. До последнего иметь мужество указывать стаду взбесившихся свиней, что оно безумно и охвачено иллюзиями, несется в бездну – это патриотизм, даже если над бездной написано «любовь к родине» и «величие нации», а сохраняющего разум и совесть называют «сумасшедшим» и «предателем». Отстаивать безусловную приоритетность императивов совести, ценности личности и жизни человека над политическими и коллективными целями, над благом страны и нации, над национальными интересами, и делать это во имя того, чтобы страна и нация были человечны, справедливы – это настоящий патриотизм, однако именно это как раз во все времена и клеймится «предательством». Всё так – «предательством» зовут готовность человека поставить ценность личности и жизни, правду требований его совести над коллективными целями и интересами, противопоставить позицию совести нередко безумным, преступным иллюзиям общественной морали и национальных идеалов, осоловелому единству толпы… Ощути сочувствие к поверженному врагу, вспомни о прощении и любви, заговори о мире и усомнись в ведущих к победе идеалах вождей, осмелься посреди всеобщего безумия и уродства рисковать и оставаться человеком – и ты «предатель» и «отщепенец». Укажи авантюристам в Варшаве, что пытаться самим разрушать версальский «статус кво» есть то же, что приближать войну и развязывать немцам руки – и ты «предатель», на тебя смотрят криво, от тебя чуть ли не с проклятиями отстраняются. Да-да, всё дело именно в этом – настоящий патриотизм есть как правило обратное от того, что обычно обозначается этим словом… Патриотизм – это вообще то, о чем в большинстве случаев молчат… Одно несомненно – он есть, настоящий патриотизм, и требующий трагических жертв, и означающий настоящее единение, и он ничуть не противоречит ни критичности разума, ни позиции личной совести, ни справедливости и ценности отдельного, пусть самого малого и ничтожного, последнего под солнцем человека, ни безусловной высоте и приоритетности всего этого, и в первую очередь – над политическим целями, коллективными интересами и благом нации, над лозунгами о «любви к родине» и «необходимости жертв»… вот и решай, суди, имей мужество, отвечай за всё сам.
Войцех устал… Проклятая натура – он желал покоя, и кажется окончательно покой у себя отобрал. Какой мирный и тихий вечер наступает перед глазами – наступает робко, словно юноша, боящийся признаться в симпатии к девушке… И как трудно представить себе, что мир и покой перед глазами – маска, ширма, за которой, быть может уже совсем недалеко, подступают война… разрушение и смерть, пляска безумия и насилия, празднующего торжество абсурда и «ничто». Надо ехать в город, скоро стемнеет и Магдалена всё-таки может решить прийти к нему, на Вольную Площадь. Что будет, что ждет?.. Какой страшный день… А ведь это еще внешне день мира… И еще не стреляют перед глазами в людей, не рвутся снаряды и бомбы… Какими же гораздо более страшными будут все последующие дни!
Колеса «Мерседеса» поднимают легкую пыль, начинают медленно и хрустя катиться по камням проселочной дороги. Войцех любит свою машину. Она символ его бескрайнего до прошлой ночи одиночества, последней вырванности из мира, из опутывающих и порабощающих, напрасных связей… Она как та раковина на улитке, которая иногда кажется ему символом его судьбы. Он ведь бесконечно, по сути и пугающе одинок… еще недавно он чувствовал, что все связи и события его судьбы, статус и имя, некоторая профессиональная известность – «ничто», «дым»… Завтра всё это обрушится и останется лишь он наедине с собой, находящийся в пути, который длится жизнь, надрывно мыслящий, требующий истины и смысла… Превратись его судьба в руины, рухни имя, сгори квартира и дом – он соберет котомку, возьмет свои книги и пойдет куда-то в другое место, где быть может станут возможны поиск истины, чистота совести, свобода, смысл, творчество… Но вот, всё же – куда бы он не пошел, куда бы не устремился его путь, он не выйдет за пределы того дома своей судьбы, имя которому Польша… с ее холодным морем на севере, скалистыми горами на юге, тонущими в лесах деревнями, с ее Краковом, Варшавой, Львовом, Брестом… легендарным шляхетским прошлым, полутора веками кандалов и виселиц, древними еврейскими кварталами, борцами за свободу, прожившими жизнь вне ее… Вот правда – он намертво сращен, связан судьбой с этой страной, не сможет жить где-нибудь в другом месте, и его путь, нить его судьбы, куда не вели бы, никогда не выйдут за ее пределы. И уж если где-то умирать, то именно здесь, где родился. Это может быть только так, и вселяет уверенность. И вот теперь еще – куда бы не устремился его путь, он всегда будет определен тем, что с ним рядом должна быть Магдалена, что их судьбы срослись, что это теперь путь двух людей, а не одного. Это, так же не вызывающее сомнений – еще одна точка опоры в наступающей катастрофе…
Исправная немецкая машина убыстряет ход. Когда она провезет профессора Житковски по улице Августинской, мимо любимого им костела Святой Катаржины к его квартире на Вольной Площади, неутомимый тенор Юзефа Малгожевского объявит всей Польше по радио о инициативе итальянского дуче Беннито Муссолини, для которого агрессия Гитлера стала такой же неожиданностью, как и для всего мира, по созыву немедленной мирной конференции с участием Англии и Франции и немедленном же подписании перемирия. Это немного и ненадолго вселит надежды в сердца. Эти надежды продлятся еще несколько дней, второго и третьего сентября, когда Англия и Франция объявят Германии войну – то, что силились называть и считать «обострением пограничного конфликта», станет называться прямо и официально «войной», но Польша будет в этой войне уже не одна, по крайней мере – на уровне деклараций. Однако – оккупация Кракова, бомбардировки Варшавы, бегство из нее правительства и бездействие армий якобы вступивших в войну союзников, вся дьявольская, безумная пляска ураганом происходящих событий в ближайшие дни, расставит всё на свои места, отберет надежды, которые зародятся вечером 1 сентября. Окончательно добьет Польшу и надежды поляков, ввергнет страну в ужасы пятилетней оккупации и многомиллионные гражданские жертвы агрессия Советской России 17 сентября – цинично спланированная за две недели перед началом событий в сговоре Сталина и Гитлера.
Профессор Войцех Житковски и правда исключительно чуткий к событиям человек, но даже его интуиция не обнажила перед ним трагизма и всей серьезности произошедшего в самый первый день войны. Ведь пока он слушал выступление ректора в Университете, томился мыслями и предчувствиями, обнимал возлюбленную, пытался прояснить разумом происходящие вокруг и в его ощущении реалий изменения, глядя на мирные вечерние поля рассуждал с собой о сути патриотизма, ловил осколки недавнего счастья, неустанно и исподволь задавал главный вопрос – что будет? – во множестве мест и районов Польши происходили настоящие, трагические и тяжелые бои. В самый первый день немецкие войска заняли вольный город Данциг, Тчев, Яблонку, Люблинцы, Опанув совместно со словацкими частями – Закопане, продвинулись в глубь территории Польши на десятки километров, не встречая от растерянных поляков ощутимого сопротивления, но заставляя их нести значительные утраты в технике и людях. Список павших в первый день войны населенных пунктов включает десятки названий. В следующие два дня состоится битва под Честноховым – польская армия потеряет в ней более ста танков, ее разгром откроет немецким войскам прямой путь на Варшаву, и немецкая армия ураганным маршем устремится к Варшаве через знаменитую «честноховскую брешь». В эти же дни, 2 и З сентября, немцы войдут в Катовице и Аушвиц, поставят под контроль Коридор и Балтийское побережье, окружат несколько крупных соединений польской армии. Вторжение будет развиваться настолько стремительно, утрата поляками позиций, соединений и территорий окажется такой ураганной, а сопротивление – таким бессильным и безнадежным, что возникнет ощущение полного разгрома, и оно породит панику. 4 сентября власти и войска начнут спешно оставлять Краков, в этот же день правительство начнет эвакуацию из Варшавы. В брошенный на произвол судьбы Краков – древнюю столицу Польши, немцы войдут 6 числа, а уже утром 8-го, через какую-то неделю после начала войны, авангардные части немецкой армии ворвутся в варшавские предместья. Крах Польской Республики, почти целиком вернувшей в 1920 году принадлежавшие Речи Посполитой до череды разделов территории, будет практически моментальным, полностью займет всего лишь месяц, а очевидным как неизбежность станет уже через десять дней после начала немецкого вторжения. Буквально за несколько коротких дней налаженная и благополучная жизнь в независимой, огромной стране, сменится на ад оккупации, массовых казней, грабежей и бесправия. Поляки словно бы привычно заснут и проснутся уже в совершенно другой стране, которая более им не принадлежит, развитие событий станет настолько ураганным, моментальным, что покажется сюжетом дурного фильма. Неожиданность и мощь, масштабность нападения гитлеровской Германии, конечно сыграет решающую роль – обескуражит правительство и армию Польши, сломит их волю к противостоянию, решениям и борьбе, заставит практически моментально потерять контроль над ситуацией. Однако – трагические и неожиданные события гитлеровского вторжения покажут вместе с тем, как бы не верили поляки в иное, насколько же слаба и во многом иллюзорна на самом деле была польская государственность этих двадцати промежуточных, прошедших со времени минувшей войны лет, таким чудом обретенная Польшей после полутора веков рабства и раздробленности независимость. Крах этой веры в свою страну станет шоком и потрясением быть может не меньшими, нежели сами, ураганом совершившиеся события. Огромная Польша, ощущавшая себя чуть ли не возродившейся Речью Посполитой былых времен, двадцать лет вселявшая в граждан уверенность в собственной стране и ее будущем, в нерушимость вновь вернувшейся к ним свободы, разогревавшая их сердца в том числе и вот тем самым весьма сомнительным патриотизмом «служения великой нации», который так тревожил и мучил мысли профессора Житковски, рухнет в считанные дни, окажется колосом на глиняных ногах, лишь маской, парадным фасадом здания с полностью прогнившими стенами и перекрытиями, способного превратиться в руины от первых серьезных колебаний почвы иди порывов ветра. В особенности страшной и потрясшей, фактически – на многие годы сломившей поляков и их волю к сопротивлению, их веру в свою страну, станет именно ураганность изменений, ворвавшихся в их жизни и судьбы, моментальность краха страны, ощущавшей себя в течение двух десятилетий чуть ли не империей в сердце Европы, возродившей свое былое историческое величие, создавшей для своих граждан благополучную, налаженную, казавшуюся надежной жизнь. В течение нескольких дней то, что казалось нерушимым, налаженным, надежным и ставшим на веки вечные, превратится в руины, исчезнет, открыв дорогу национальным унижениям, бесправию, бесконечности смертей, настойчивой попытке вымертвить в поляках само ощущения права и надежды быть нацией и иметь свою независимую государственность. Та благополучная и обустроенная всеобщая жизнь, которая призвана служить почвой для расцвета жизней и судеб, планов и дел, возможностей и талантов отдельных людей, для их карьеры, стремлений, дерзких притязаний и прочего, быть полем, на котором осуществляются их воля, цели и любовь к дару жизни, в одно мгновение рухнет. Ей на смену придут хаос и бесправие оккупации, в которых не останется места для судеб и планов, строительства чего-то, а будут лишь постоянная угроза заточения и смерти, постоянный же, неотделимый от дыхания и бодрствования страх, отчаянная борьба за то, чтобы просто выжить, выстоять и обмануть обстоятельства, всё уродство временения, ожидания, неизвестно насколько застывшего во имя какой-то смутной, отдаленной в самые дальние горизонты надежды, замершей и словно умершей, заснувшей на неопределенный срок в своих побуждениях и порывах человеческой жизни. Продолжая длиться, в испытаниях и мытарствах, мучительных тяготах и невзгодах происходить, человеческая жизнь словно умрет, застынет в ее самых главных, трепетных стремления и порывах, побуждениях и целях, замрет в глядящем во мрак и неизвестность ожидании. Животная, дышащая страхом жажда любой ценой выжить, суметь протянуть еще и еще день – во имя чего-то смутного вдалеке, на едва различимых горизонтах будущего, ради того, что когда-то еще может быть и случиться, какой-то последней тлеющей надежды и вопреки всему не погибшей веры в возможность настоящей, полноценной, нормальной жизни, которая позволяет о чем-то мечтать, что-то строить и за что-то бороться, стремиться к каким-нибудь значимым целям – вот, собственно, чем будет движима жизнь большинства поляков в годы оккупации. Да что там! Этим же временением, застывшим и замершим ожиданием, отчаянным и протекающим в страхе и каждодневной борьбе выживанием, по сути будет жизнь большинства людей на оккупированных немцами и их союзниками территориях, от Балкан до Балтийского и Белого моря, от Дуная до истоков Днепра. В той или иной степени этим будет жизнь поляков и словаков, чехов и русских, украинцев и евреев почти на всем огромном, видавшем виды европейском континенте, человеческая жизнь утратит всякую нормальность и настоящность, надежду и шанс быть реализованной в ее возможностях, застынет и замрет в ожидании, во временении над бездной совершающихся трагических событий и перед мраком и ближайшего, и отдаленного будущего. Она станет похожей на торжество «ничто» и воли к смерти, на дьявольскую пляску вырвавшегося на волю, утратившего какие-либо преграды безумия, на абсурдистский, поставленный в декорациях бесконечных мук и смертей фарс, в котором словно бы буйными сумасшедшими выдуманные правила и предписания, подменят ее нормальный, продуктивный и прочный уклад, а дуло винтовки, прихоть подонков и служащая этой прихоти исполнительность служак, станут законом и правосудием. В той жизни, которая на долгие годы воцарится в Польше после страшного сентября 1939 года, люди будут иметь возможность лишь замереть и ждать чего-то, использовать крохи кое-как, в трагических мытарствах и испытаниях, по большей части бездарно и напрасно протекающих дней, будучи счастливыми и благодаря бога, что они вообще есть эти дни, не оборвались по доносу и власти случая, по прихоти эсэсовца, гестаповца, обычного патрульного на блокпосту или взявшего в руки, сотрудничающего с оккупантами украинского националиста, а значит – что еще есть возможность надеяться. Конечно – веру потеряют не все. Будет создано польское правительство в изгнании, сотрудничающее с единым фронтом сопротивления нацисткой Германии, под его руководством через три года будет сформирована Армия Крайова – массивное партизанское формирование, проводившее локальные операции в основном на востоке довоенной Польши. Не утратит веры и готовности к борьбе и Тадеуш Лер-Сплавински, ректор Ягеллонского университета, так пророчески ощутивший в его медленных шагах по готическому коридору и трагизм предстоящих его стране, его городу и университету испытаний, и свое грядущее предназначение в них. Вместе со своими коллегами, легендарным профессорами университета, прошедший через концлагерь, потерявший многих из них, через три года после описанных событий, в самый разгар оккупации, он организует в родном Кракове подпольную работу Ягеллонского университета, запрещенного и закрытого вскоре после начала войны. В мужестве и риске поступков он воплотит свою веру в то, что именно академическая среда, университеты и интеллигенция должны, призваны стать духовным оплотом сопротивления оккупации и борьбы за независимость, тем очагом света, который позволит сохранит волю поляков к борьбе, сознание ими, кто они, их память о своей свободе и независимой, великой стране. Конечно – через несколько лет, когда развернувшаяся война перенесется на территорию Советской России, во многом по примеру ее населения и почувствовав, что оккупационный режим пришел к пределу напряжения своих возможностей и сил, не незыблем и может быть свергнут, что доселе непобедимая в ее движении, подчиняющая одним ужасом перед собой армия, пусть и в отчаянной, трагической борьбе, но может быть разбита и отброшена, поляки начнут и будут сопротивляться. Однако – даже не желающий вынужден будет признать, что сила и масштаб сопротивления оккупации и подпольной борьбы, вовлеченности в это масс простых людей, были в огромной, помнящей величие и славу своей истории, так долго и трагически боровшейся за независимость Польше гораздо меньшими, нежели хотя бы в маленьких балканских странах, не говоря уже о кровавой, трагической, могучей, не считающейся с ценой и жертвами борьбе, в которую вступит с оккупантами гражданское население Белоруссии, России и Украины, в том числе и на польских перед войной землях. Всё это, а так же покорность и практически полное бессилие и бездействие поляков в первые три года оккупации, во многом станут следствием, продолжением шока и потрясения первых дней войны, потрясения в умах и душах людей от моментального краха своей огромной, казавшейся сильной и великой страны. Этот ураганом состоявшийся крах, вселит в умы и души людей опустошенность, безнадежность и ощущение бессилия перед оккупацией, необоримости таковой, невозможности победить тех, кто властно и решительно, стремительно пришел на их землю и покорил ее. Сам мгновенный характер событий первых дней войны и немецкого вторжения, масштабы крушения армии и государства, станут потрясением и шоком, оправиться от которых воля поляков, их гражданское и национальное самоощущение, смогут только через несколько лет. Характер событий и потрясение от них станут сломом в душе польского общества, которое на несколько лет словно затаится в глубоком испуге перед воцарившимся и ощущающимся непреодолимым положением вещей, примет его, в наступивших после страшных событиях по большей части проявит бессилие, бездействие и покорность. «Ожидание» и необходимость «терпеть до лучших времен», станут официальной политикой Польского Правительства в изгнании и созданного им на территории оккупированной Польши подполья, руководство Армии Крайовой будет держаться за политику «отказа от активного сопротивления» до последнего, даже тогда, когда станет огромным, включающим более трехсот тысяч человек военизированным формированием. Единственно приемлемой формой сопротивления оккупации будет провозглашены пассивное противодействие и саботаж, фактически – поляков будут призывать покорно терпеть оккупацию и «ждать до лучших времен», и так это будет в стране, в которой в то же самое время будут уничтожаться сотни тысяч ее граждан, в которой попавшие под оккупационный режим граждане будут обречены отдавать последнее и лишатся возможности учить своих детей, окажутся растоптанными как нация. Факт в том, что первый выстрел в немецкого солдата будет сделан лишь через почти три года со времени установления немецкой оккупации, и борцами тех социалистических и коммунистических организаций польского подполья, которые будет обращать к активному сопротивлению, к деятельной подпольной и партизанской войне, и поддерживать в таковых Советский Союз. Факт в том, что остальные подпольные организации поляков будут вынуждены втянуться в активное сопротивление именно в поданном их политическими противниками примере, и будут делать это нехотя, максимально ограничивая масштаб и количество проводимых акций, гораздо более посвящая себя чистке собственных рядов, взаимной вражде, уничтожению соратников из противоположных лагерей и ожиданию. Факт в том, что учить поляков жертвенности и героизму сопротивления, последнему достоинству смерти в противостоянии мучителям и с оружием в руках, будут именно евреи, промышленно уничтожаемые, привыкшие быть и считаться бессловесными овцами на бойне – узники лагеря смерти Собибор, в адских муках выжившие, но готовые без надежды на победу, в сладости борьбы и мести умереть, узники Варшавского Гетто. Евреи – молодые узники краковского гетто, будут теми, кто первыми решится атаковать немецких солдат в столице созданного оккупационными властями генерал-губернаторства, которая считалась теми недоступной террору и деятельности подполья, подобное представляет собой неумолимый исторический факт. Совершившие в рождественскую ночь 1942 года диверсии, они возложат цветы к памятникам борцов за свободу Польши Мицкевича и Костюшко, на улице Батория растянут бело-красный флаг Республики Польской, Второй Речи Посполитой, их Родины, показав этим, что запертые и гибнущие в гетто, уже вовсю уничтожаемые к тому времени в лагерях смерти, оставленные большинством их сограждан на произвол судьбы, они, евреи, в первую очередь ощущают себя поляками, и швыряя бомбы в немецких офицеров, борются за свободу их родной страны, не мыслят своей свободы и жизни без ее свободы. В то время, когда издания Армии Крайовой будут осуждать патриотов из иных лагерей, требующих активной борьбы с оккупантами, пытаться отстоять в идеологическом бою политику подчеркнуто пассивного сопротивления, фактически – призывая сограждан терпеть, нести на себе иго и испытания оккупации, когда боевики «Национальных легионов» – более чем стотысячного военизированного формирования, будут десятками диверсий и терактов уничтожать не оккупантов, а собратьев-поляков, своих политических противников и конкурентов по подполью, еврейские узники Варшавского гетто – истерзанные голодом, убийствами и муками, сотнями тысяч этапируемые в лагеря смерти, решатся восстать, своим отчаянным и дерзким, лишенным каких-либо шансов на успех поступком, навсегда заявят о достоинстве и смысле самой борьбы, смерти в борьбе и с оружием в руках. Всё это так или иначе станет последствием шока и потрясения первых дней войны, ураганного краха польской государственности, казавшейся чуть ли не возрождением древней Речи Посполитой. Крах сентября 1939 года станет страхом, залегшим в самые глубины души польского общества, на долгие годы сковавшим его волю к сопротивлению, страхом перед открытым противостоянием оккупантам и ощущением невозможности что-либо изменить, безнадежности воцарившегося с оккупацией положения вещей.
Очень многое из этого профессор Войцех Житковски, как и значительное число его сограждан, больше смутно, но местами ясно предчувствует в часы самого первого дня – предчувствует и не желает верить, пытается лишь уразуметь происходящие и развивающиеся с силой урагана события, в которых один час кажется вечностью и вмещает себя бесконечность изменений, в которых короткие мгновения обнажают бесконечный объем того, чем они могут быть наполнены и свою бесконечную, вопреки «привычному» течению и укладу жизни, значимость. Конечно, как и все пытается надеяться, представить, что происходящее – дурной и должный скоро закончиться сон, цепляется в этом за обрывки новостей, вычитанное о мощи польской армии и некогда слышанное. Всё это будет напрасным, безжалостно станет таким уже завтра. Сегодня же – глубоким вечером 1 сентября 1939 года, пережив полный потрясений, обретений и утрат, безумный и кажущийся сном, начавшийся счастливо и привычно день, в который безвозвратно рухнуло всё, что вчера было налажено и надежно и было таковым многие годы перед этим, профессор Житковски стоит у открытого окна в своей квартире на третьем этаже, смотрит на пустую, окутанную свежей ночью Вольную Площадь, на тонущую во мгле и высоте башню Казимежской Ратуши, думает о том, что Магдалена и близость с ней – единственно надежное, что несомненно и уверенно есть в его жизни, старается успокоиться, почувствовать и увидеть впереди что-то хорошее. Тишина ночи всегда кажется реальностью безопасности и покоя, сон – вечная, несомненная ценность в мире под луной, а человек – неисправим. Ему нужно надеяться и верить. Больше самой жизни.