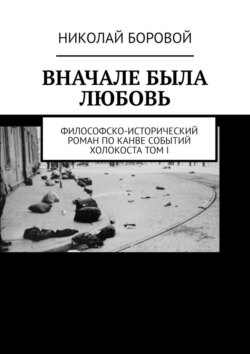Читать книгу Вначале была любовь. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том I - Николай Андреевич Боровой - Страница 12
Часть вторая
Глава первая
ОглавлениеДО ЙОТЫ ВЫВЕРЕННОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ1.
Великий раввин и «гаон» поколения Мордехай Розенфельд, по множественным «галахот» которого живут все благочестивые ортодоксальные евреи-ашкеназим, восьмидесятилетний старик, более двадцати лет назад выгнавший из дома и проклявший сына-«первенца» Нахума, нынешнего профессора философии Войцеха Житковски, прочитавший тому перед лицом общины «хэрэм», и в самой глубокой старости не изменял привычке всей своей жизни – почти не покидать пределов еврейского квартала Казимеж, места, в котором он родился и всю жизнь прожил. Раввин боялся мест, лишенных, как он говорил, ощутимого присутствия еврейской святости, чужих мест; замкнутый в пределах старинного еврейского квартала, от трамвайного депо до улицы Мёдовой образ его жизни, во-первых – всецело соответствовал его делам и потребностям, а во-вторых – проистекал из знаменитой галахи из трактата «Пиркей Авот»: «отдались от дурного соседа». Конечно, великие мудрецы времен Бэйс-Микдойш-га-Шени, прежде всего имели ввиду не следующих Закону и не соблюдающих традицию евреев, но разве еще более это не относится к «гоям», идолопоклонникам и язычникам? Кроме того, не было в особенности много что и искать великому раввину за пределами Казимежа в течение его долгой жизни. Жил он в глубине квартала, на улице Йосефа. Провизию «глатт кошер» ему поставляли десятилетиями два уважаемых магазина – Гольдберга и Шпильмана, великий раввин конечно же покупал то, что клал в рот, только в проверенных на сто процентов местах, в отношении к которым какой-либо «софэк» не возможен; лапсердак и прочую одежду ему шил сначала старик Матитьягу Коэн, ателье которого располагалось на углу Шерокой, напротив кладбищенской синагоги, а после – сын оного Йосеф и внуки Натаниэль и Аврум. Образ жизни великого раввина был неизменен десятилетиями. Утром он вставал, принимал «микву», молился в Высокой синагоге, после шел учиться и учить в Бэйс-Мидройш, который находился с задней стороны синагоги, если желал купить что-то сам или же выйти к людям, послушать те новости, которые не донесли ему к столу с талмудическими книгами – приходил на Новый рынок, садился в ресторанчике Штуца, заказывал черный кофе и штрудель, подносившиеся к его столику с поклоном чуть ли не в пояс, и слушал, вбирал информацию, говорил, рассуждал. Так что, верти не верти – а и особенных причин у раввина Мордехая Розенфельда покидать родной еврейский квартал не было, да в общем-то и должно быть так у настоящего, благочестивого, полностью отдающего Закону судьбу, дела и мысли еврея. Случался выход великого раввина к «гоям» и в большой Краков крайне редко, и если да – то по самым крайним же, неумолимым причинам. К примеру – если раввин должен был ехать на вокзал, чтобы по святым и праведным делам покинуть пределы Кракова, или же – пока позволяли ноги, силы и возраст – встретить уважаемого гостя краковской общины в Казимеже. Или вот другое – должно было прибыть великому раввину по неотложным делам общины в муниципалитет. Ну, и в таком роде.
Сегодня, по календарю «луази» 11 сентября 1939 года, в пятый день оккупации Кракова немецкими войсками, выйти в город восьмидесятилетнему великому раввину предстояло непременно, без какой-либо иной возможности. Во-первых, приближались дни великих осенних праздников и по заведенной традиции, великий раввин Розенфельд, присовокуплявший к своему имени и казимежскую общину, слал заказными письмами поздравления большим и известным раввинам – главам общин и окружающих Краков городов и деревень, и по всей Польше. Обычно, подобные задания от имени раввина исполнял его секретарь, в последние пятнадцать лет – Шмуэль Грольх, достойный еврей сорока с небольшим лет, острый умом, схватывавший пожелания и мысли раввина на лету, своими быстрыми, мельтешащими ногами моментально покрывавший расстояние от Казимежа до Главного управления Почты Польской в Кракове и обратно. Эту и другую важную переписку, великий раввин считал возможным посылать только из Главного почтового управления – он не доверял «гоям» вообще, «гоям», работающим в маленьких почтовых отделениях в частности (уж наверное, неоткуда им набраться ни дисциплины, ни настоящего знания дела, ни уважения к своему начальству, какое оно там есть) и если уже посылать, то только с Главной почты – там, справедливо думал он, и люди должны быть солиднее и достойнее, и страху у них и радения о работе поболе будет. Прав был раввин или же нет, напрасно или по делу заставлял своего секретаря бегать добрых два километра туда и обратно по Кракову, но поздравления и всякая иная переписка великого раввина всегда доходили до адресата, как всегда же приходил к нему конечно ожидаемый ответ. Однако, сегодня дело имело свою специфику, в отправке корреспонденции не должно было быть ни самой малейшей ошибки, речь шла о жизни и благополучии благочестивых евреев, а потому – проконтролировать дело, чувствовал раввин с неохотой, он должен лично, и придется два километра по Кракову прошагать не только быстроногому Шмуэлю Грольху, а и ему самому, уже давно не получающему от излишних движений никакого удовольствия. Всё дело было конечно в оккупации города проклятыми варварами-«колбасниками», да сотрется на веки вечные имя каждого из них и каждого из их уродившихся потомков до седьмого колена! Страшные, горькие вести доходили до раввинов и глав общины в Казимеже из окрестных еврейских поселений, предчувствованные в тревоге сердец еврейских. В самом Кракове уже несколько дней уважаемых, богатых евреев хватают на улицах центра, чтобы держать их в тюрьме как заложников, а в маленьких городах и местечках, доносят вести, евреев без суда и следствия, на месте могут лишить и самой жизни (да сгинут навеки из мира Аман и все «отродье амановское», аминь, аминь и аминь!)! Да и удивительно ли – разве забыли евреи нечисть крестоносную и множество евреев, отдавших жизни во имя «святости имени божьего» в устроенных нечистью погромах? Разве забыли евреи страшные, уничтожившие чуть ли не все еврейство галицийское и волынское погромы казака Хмеля? Разве не та же самая крестоносная нечисть ныне топчет польскую землю и улицы Кракова, и не того же ли, да еще и худшего, можно ждать от них? А потому – от имени всех больших раввинов Казимежа и глав еврейской общины, вместе с поздравлениями, должен отослать великий раввин и «гаон» раввинам окрестных общин приглашение и предложение – ехать благочестивым евреям в Краков, искать убежище в большой, стародавней, на весь мир известной еврейской общине, находящейся под особым покровительством и городских властей, и католического кардинала и архиепископа. В малых городах свиньи-«колбасники», да сотрется их имя, могут многое себе позволить, но в Кракове, на глазах всего «людства польского» и больших «гойских» величин, быть может хоть сколько-нибудь поостерегутся и множество жизней еврейских будет спасено. Правда, совсем не каждый еврей из Казимежа верит в покровительство муниципальных властей, католического архиепископа и кардинала. За прошедшие десять дней многие собрали вещи, взяли близких и выдвинулись на восток Польши, во Львов и Брест, однако – доходят скорбные, побуждающие с мольбой обращаться к Всевышнему вести, что ноги варваров, «новых крестоносцев», могут вскоре настигнуть их даже там. А потому, кажется большим раввинам Казимежа, что укрытие в Кракове – наилучший выход сейчас для соплеменников из окружающих городов и деревень, и готовы они принять беженцев-собратьев в том количестве, в котором приведут тех посланные народу Израилеву за грехи его несчастья. Один Царь Небесный, Творец Мира, восседающий в своих высотах знает, куда дойдут сегодня посылаемые письма, а куда нет, ведь по всей стране война, хаос, Краков и Варшаву бросили на произвол судьбы, и как уж Почте Польской работать при этом исправно, но выхода другого в любом случае не было и надо было попытаться. Дело важное до крайности, и сделать его раввин должен был сам, и понимая это, невзирая на страх, боль в ногах и тяжесть двухкилометрового похода, знал раввин о предстоящем выходе из квартала в город с вечера, и с вечера же к тому готовился. Встал рано утром, как заведено принял микву, помолился «шахарис» в Высокой синагоге. Молился особенно долго, не торопясь. Сегодня, в понедельник, молиться дольше обычного предстояло в любом случае, ибо должно было, бьючи кулаком в старческую грудь, читать «таханун», покаянную молитву. Но в наставшие времена и не мог великий раввин помолиться быстро, «по делу», как бывало необходимо. Горькие, тяжелые дни пришли для евреев Кракова и всего народа израильского, и с особенной силой должно обращаться ко Всевышнему и просить его о милости для своего народа. А потому – и череду утренних благословений, и славословия «амиды», и традиционные покаянные формулы «тахануна», читал и произносил великий раввин иногда чуть ли не по словам и слогам, смакуя смыслы произносимого и делая на них ритмом речи акцент, вкладывая в слова столько мольбы, просьбы и благоговейного религиозного чувства, сколько было доступно силам его восьмидесятилетней души. Закончив молитву после девяти утра, наскоро позавтракав, дав накоротко урок ученикам в Бейс-Мидройш, раввин надел с помощью Грольха хорошо вычищенный парадный лапсердак, водрузил на белую, с редкими волосами голову высоченный «литвакский» котелок с широкими полями, и опираясь на трость, медленно выдвинулся с Грольхом по направлению к зданию Главной почты – тому, что напротив Доминиканского монастыря и костела, рассчитывая конечно же успеть вернуться к «минхе». В свои восемьдесят лет великий раввин страдал ревматизмом и болью в ногах, особенно сильной к полудню, однако – силы телесные в нем еще были, спина, вопреки ожидаемому, не согнулась с годами над талмудическими книгами, и шел он медленно и величаво, опираясь на массивную трость, вовсе не только поэтому. Во-первых – шествие великого раввина было событием, множество людей, завидев его, кланялись издалека, в почти поясном поклоне и на цыпочках подбегали к «гаону» и мудрецу, благословит Всевышний его дни, брали кончики его пальцев и со счастьем, долго припадали к ним губами, многие же начинали быстрым говорком на идише рассказывать о настигших проблемах и бедах, просили благословения: тут уж раввин Розенфельд, как положено, вынужден был останавливаться, класть ладонь на голову, покрытую черной кипой, и читать благословения из «тегилим». А в тяжелые дни, которые настали, рассказать раввину о тревоге и страхе, испросить его благословения, услышать от него мудрые вещи, способные ободрить, хотел почти каждый. И потому почти каждый же, даже издалека завидев его, бросался к нему быстро семенящими ногами и присогнувшись, целовал долго и многократно пальцы с поклоном, замирал в трепете, ощутив на голове старческую руку и услышав хриплое шептание традиционных благословений. Так что, поход великого раввина Розенфельда на Главную почту продвигался медленно и даже очень, но и не хотел раввин идти быстрее, конечно же не хотел. Мужественно еврейское сердце, наследник всех мук израилевых, свято чтимых через века, но в особенности страшно было сегодня раввину выйти за пределы Казимежа, ибо это означало попасть в самую прямую власть и прихоть варваров – новых крестоносцев, предводительствуемых бесноватым отродьем австрийской шлюхи. Пройдя закоулками домов на Шерокую, двигаясь вдоль синагоги РЕМУ и границы кладбища, раввин и его секретарь Грольх свернули наискось и направо, и так вышли почти к самому концу улицы Мёдовой – последней большой улицы еврейского квартала, отделявшей тот от Старого Кракова, пол пути до цели было ими пройдено. Солдаты-варвары в касках с широкими, оттопыренными полями и наглухо застегнутых, длинных и подпоясанных серых шинелях, попались им на улице Дитля и Старовисльной конечно же сразу. Хоть и здравый смысл, и Закон велят в этом случае отворотить глаза, вперил великий раввин в них взгляд и держал столько мгновений, сколько нужно было почувствовать, что над страхом и дрожью в душе он способен совладать. Ощутив же это, он приободрился, еще более распрямил и без того на удивление прямую для его лет спину, чуть убыстрил шаг, от чего движение его с семенящим рядом, сдерживающим привыкшие к быстроте ноги Грольхом, стало еще более величавым, походящим на чудную торжественную церемонию, вызывающую всемернейший интерес у окружающих. По-счастью – интерес этот испытывали только поляки, для которых в шествии еврея-ортодокса по улицам всё же не было ничего из ряда вон выходящего. Немецкие солдаты при иных обстоятельствах проявили бы к шествию раввина интерес недюженный, ибо настоящего религиозного еврея, в лапсердаке, широкополом котелке и со свисающими на плечи пейсами, еврея, будто сошедшего из столь знакомых им нацистских и антисемитских карикатур, большинство уроженцев Дрездена и Киля, Берлина и Мюнхена, Кельна и Бремена не видело в жизни в глаза, и один лишь бог знает, чем бы и вправду мог закончится для раввина такой интерес. Однако – дежурившие на улицах Кракова в это утро солдаты были озабочены совершенно иным и куда более важным: в Краков, для первичной организации работы полицейских служб, прибыл оберштурмбанфюрер СС герр Бруно Мюллер, который сразу же начал объезжать город2. А потому – массово выброшенные на улицы города для обеспечения порядка и безопасности герра оберштубманфюрера солдаты, «фольксы» и «шуцманы», прежде всего должны были обращать внимание на группы молодых, хорошо выправленных поляков, следить за бурным движением трамваев, машин и экипажей на центральных краковских улицах, и до традиционно обряженного и куда-то идущего старого еврея с сопровождающим, им в это утро не было никакого дела. А потому – прибытие великого раввина Розенфельда и его секретаря Грольха к зданию Главной почты прошло без каких-то омрачающих событий.
Войдя в зал, надев на лицо важность и некое подобие чопорности – сложное выражение лица, которым человек, якобы выказывая уважение к окружающим, на самом деле проводит между ними и собой черту и со всей внятностью выказывает уважение лишь к самому себе и собственному достоинству, занял положенное место в очереди к служащему.
…Пан Олесь Новачек, в этот день исполнявший службу как раз за тем окном, очередь к которому заняли раввин Розенфельд и его секретарь Грольх, был среднего роста человеком между сорока и пятьюдесятью годами, исключительно вежливым, исполнительным и честным, по большей части беззлобным. Первые качества были выработаны в характере пана Новачека терниями его молодости, когда семья достойного пана, уроженца Пшиховице, маленького местечка, почти деревеньки в окрестностях Кракова, в сложные годы войны и после нее, выживала в основном тем, что старшие дети, успевшие получить среднее образование и учившиеся хорошо, зарабатывали порученцами у местных толстосумов. Олесю Новачеку, в частности же, довелось быть порученцем у хозяина небольшого местного заводика по производству деревянных стройматериалов – работа эта требовала предельной памяти, точности и ответственности, и честность, ведущая к доверию хозяина, как рано понял будущий служащий Почты Польской – это единственный путь человека из простой и бедной семьи хоть к какому-то жизненному преуспеванию. Честность характера и поступков и вправду, в отличие от многих иных известных случаев, сослужила пану Новачеку в жизни добрую службу. Завоевав доверие хозяина и после – рекомендацию оного к компаньону в Краков, пан Новачек получил возможность поселиться в этом замечательном городе, выслужиться на рабочем месте в небольшом банке и начать зарабатывать так хорошо, что не лишенная пусть даже несколько простоватой польской красоты пани Ангелика, коренная краковянка из Подгуже, различившая в пане Новачеке уравновешенного, любящего и обещающего быть покорным мужа, согласилась стать спутницей его жизни и матерью его детей. Честность не подвела пана ни в семейной жизни, став одним из качеств, за которые жена ценила и уважала его, ни в дальнейшем делании карьеры – перейдя на работу из банка в Почту Польску, помытарствовав несколько лет по отделениям Клепажа и Подгуже, пан Новачек и здесь сумел завоевать доверие начальства, вследствие чего уж более как пять лет был переведен на должность старшего почтмейстера в Главном управлении на углу Старовисльной. Так что даже к самому слову «честность» и к удивительному, редкому явлению – способности человека, невзирая на тяготы и соблазны быть честным в жизни и делах, пан Новачек относился со всей трепетной серьезностью, уж что-что, а это слово не было для него пустым звуком или пафосно-лицемерной маской. «На честности стоит мир» – ближе к сорока годам ставший часто посещать Доминиканский костел, пан Новачек начал часто же произносить это по разным поводам мысленно и вслух, и сама жизнь пана Новачека, как она состоялась, убеждала его в безусловной истинности этих слов, ибо всё, что в середине сорокалетия имел в жизни и судьбе пан – достойное место службы, достаток, еще не утратившую красоты жену и двух прекрасных детей, ему подарили именно честность и труд.
Что же до беззлобности, тот тут было очень просто – пан Новачек с молодости не блистал мужской привлекательностью, был болезнен и посредственен видом, всё в жизни добывал тяжелым трудом и душевным усилием, и испытывать сочувствие к окружающим, ощущать в них братьев по общей, человеческой и весьма нелегкой судьбе в мире, по причине пережитых тягот, внятно читавшихся в его облике невзирая на достигнутые успехи, было для него более привычно и радостно, нежели желать причинить им какой-нибудь вред.
Евреев всякого рода пан Новачек конечно же видывал в жизни немало, в том числе и религиозных, носящих лапсердаки и пейсы – их было достаточно и в Пшиховице, и в иных окрестных городках, и в самом Кракове. Однако – всегда это происходило как-то издалека, ни работать с евреями или у евреев, ни иметь с ними какого-либо иного жизненного дела, по странности судьбы пану Новачеку так и не довелось.
Что тут поделаешь – многие, очень многие из тех людей, которые прошли через жизнь пана Новачека, не любили евреев и говорили о них исключительно дурно. А что уж вспоминать о том, что довольно часто приходится слышать пану Новачеку о евреях в костелах, когда ксёндзы после мессы обращаются к пастве с амвона! Собственного опыта дел с евреями пан Новачек не имел, а верить тому, что часто слышал вокруг, ему, по причине давно воцарившейся в душе и характере беззлобности и безобидности, очень не хотелось. Что-то верное, безошибочно простое подсказывало пану Новачеку из глубины души, что если о каких-нибудь людях так много и нарочито говорят плохие, очень плохие вещи, то скорее всего правдой это быть не может. Впрочем – именно потому, что евреев, с которыми он бы вел дела и тесно соприкасался, в жизни и судьбе пана Новачека не было, сам подобный вопрос был для него, собственно, скорее теоретическим, волновал его иногда после важных месс, либо же редко и не надолго поднимался в разговорах. И было так это до самых последних дней, пока немцы не вторглись в Польшу и не заняли оставленный польскими властями и армией Краков. Весь ход событий, начавшихся чуть ли не первого с треска мотоциклов и первых звуков лающей речи на краковских улицах, поставил этот вопрос перед паном Новачеком как никогда остро, болезненно, потому что у волн ненависти к евреям, сразу поднятых новыми хозяевами, бьющими решительные шаги по улицам, лестницам и коридорам, кажется, не было предела. Многого пока не произошло. Рассказывали люди, что схватили кого-то из богатых евреев и не понятно куда увезли. В пятницу немецкие власти издали приказ о том, чтобы метить предприятия евреев, и уже в субботу и вчера, по дороге на мессу в Доминиканский костел, он сам лично видел несколько магазинов старины и ателье на Мёдовой, на которых было крупными буквами написано желтой краской «юде». И конечно – разговоры вокруг. Полные и страха, и иногда откровенной ненависти, мол, наконец-то евреев заставят заплатить за то да за это, но более же всего пугали и возмущали разговоры спокойно-деловитые, когда люди, видимо лучше, чем пан Новачек знакомые с жизнью в Германии и тем, как там с евреями принято поступать, без какой-то особой злобы, обстоятельно и с откровенным интересом, как судачат соседи о новостях, обсуждали, что может произойти то и то, и скорее всего произойдет. Знаете, не то чтобы злобствовали, и не то чтобы предвкушали, нет. Вот как если бы вдруг объявили власти менять трамвайные пути на Старовисльной, что сильно изменило и осложнило бы жизнь для всех. И будет, и сделать ничего нельзя, и станет занозой в привычном порядке жизни, и обещает какие-то изменения, и хочешь или не хочешь – вызывает интерес, заставляет строить предположения. Вот именно эти разговоры – в подобном тоне, но не о трамвайных путях, а
1
В основу этой главы и разворачивающейся далее сюжетной линии романа, положена благочестивая история, и доныне рассказываемая в качестве «притчи мудрости» на уроках в талмудических заведениях, посвященных «Трактату о находках», и в этом смысле – реалистическая.. Автору, довелось слышать ее на уроках раввина Фаермана в иерусалимской «йешиве» под названием «Махон Меир» в 2000 году. Она была призвана проиллюстрировать основные идеи трактата, ее сюжет относился к предвоенным и военным событиям в Белоруссии, в которых участвовал один известный хабадский раввин, собственно – речь идет о рассказанном этим раввином в воспоминаниях. Возможно, какие-то события в ней действительно имели место быть. Однако сюжет ее и решаемые в том дилеммы настолько характерны для раввинистических дискуссий еще средневековых времен, что скорее всего речь идет о легенде, которая использовалась в качестве религиозной притчи и лишь была сращена с трагическими событиями жизни и судьбы этого человека в период Второй Мировой Войны. Автор оставил суть событий рассказанной ему некогда истории неизменной и передал ее почти дословно, просто перенес ее в фабулу настоящего сюжета, что же до этических выводов – автор лишь доносит факты и суть, оставляя право каждому делать выводы самостоятельно. И то нравственное впечатление, которое складывается по знакомству с историей, целиком и полностью соответствует ее сути, духу и мыслям, канве ее почти дословно изложенных событий. А потому – ответственность за него лежит на людях, жизнь и поступки которых определены затронутыми в ней религиозными убеждениями, выводы же оставлены на самостоятельное суждение читателя.
2
Достоверно неизвестно, когда в первый раз будущий шеф краковской полиции Бруно Мюллер посетил Краков и в общих чертах познакомился с должностью и работой. Автор по праву предположил, что это произошло именно в этот день.