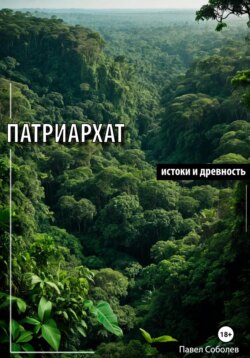Читать книгу Патриархат: истоки и древность - Павел Соболев - Страница 10
ЧАСТЬ 1: Факты
3. БРАК – СИМПТОМ МУЖСКОГО ГОСПОДСТВА
ОглавлениеИнтересный вектор дискуссии о мужском господстве задал Клод Леви-Строс, в своей фундаментальной работе «Элементарные структуры родства» (1949) указавший, что брак повсеместно – это обмен женщинами. Во всех культурах мужчины каким-то образом получили право распоряжаться женщинами, передавая их друг другу в качестве жён, хозяек, матерей или рабынь. Если брать конкретно общества собирателей, то решение о замужестве девушки почти всегда принимали её отец, дядя или брат. Так у бушменов, пигмеев, австралийцев и у многих других. Причём широко распространённой оказалась компенсация за невесту: жених должен был либо дать взамен невесты свою сестру или племянницу, либо вручить за неё какие-то дары (выкуп невесты – brideprice, bridewealth), либо же отработать перед её родителями (brideservice) в течение какого-то срока (у земледельцев это работа на их земле, у собирателей – регулярная добыча дичи для них). Так что столь хорошо знакомое всем «У вас товар, у нас – купец» – это древнейшая традиция, а не что-то, возникшее лишь в обществе с производящей экономикой. Приобретение жены никогда не было безвозмездным, за неё нужно было что-то отдать.
У пигмеев Конго был обычай обмена сёстрами: мужчина, изъявивший желание жениться, должен был обещать брату невесты свою собственную сестру в качестве жены. Колин Тёрнбулл, проживший среди пигмеев некоторое время, описывал ярость пигмея, когда его сестра, вопреки традиции, отказалась выходить замуж за брата его будущей жены. Брат прилюдно избил сестру, почти даже убил. «Когда он закончил с Ямбабо, она представляла собой жалкое зрелище, поцарапанная и истекающая кровью, с заплывшим глазом. И всё же она отказалась выйти замуж» [224, p. 207]. Интересно, что смотревшие на это соплеменники одобряли поведение брата, а один даже сказал, что «возможно, ему следовало бить её сильнее, потому что некоторым девушкам нравится, когда их бьют». Этот маленький эпизод говорит о закреплённом в культуре механизме обмена сёстрами между мужчинами. Такая же картина характерна и для других регионов мира. У новогвинейских народов также, «вступая в брак, мужчины чаще всего обмениваются сёстрами. Когда молодой человек женится на девушке, то от него ждут, что он выдаст свою сестру за брата своей жены. Если он почему-либо не может этого сделать, ему приходится платить за невесту большой выкуп. Девушек всегда выдают замуж братья», писал этнограф [32]. Ну и конечно, для новогвинейских невест, как и для невест всего мира, характерно нежелание выходить замуж, сопровождаемое слезами и даже попытками бегства (почти всегда неудачными, потому что родня всё равно возвращает её мужу). У южноамериканских индейцев тукано «сестёр символизируют фекалии, потому что они должны быть потеряны, чтобы система работала» [167].
Но не всегда за женщину нужно было что-то давать, существовал и безвозмездный способ заключения брака: похищение невесты. Он тоже был распространён когда-то по всему миру – и у собирателей в первую очередь. Причём часто похищение было самым настоящим – против воли невесты и без сговора с её роднёй. Вообще, может показаться странным и даже курьёзным, но в этнографии давно установлено, что вооружённые стычки между разными группами собирателей по всей планете происходили главным образом из-за женщин. Не из-за еды, воды или других ресурсов, а именно из-за женщин: мужчины одной группы совершали набеги на другие группы, убивали всех мужчин и детей, а женщин уводили с собой, чтобы сделать своими жёнами. В последней главе книги причины такого положения вещей будут рассмотрены подробнее.
Обозначив, что брак – это всегда обмен женщинами, Леви-Строс не стал углубляться в объяснение этого феномена, но за него это сделали исследователи феминистского лагеря. Они отметили, что в мире нет ни одной культуры, где бы женщины властвовали над мужчинами и обменивались ими. Обмену всегда подлежат женщины. И обмениваются ими мужчины. «Если женщины – дары, то мужчины – партнёры по обмену», писала антрополог Гейл Рубин, анализируя труды Леви-Строса [85]. То есть это не мужское господство рождается и проявляется в браке, а сам брак стал результатом уже сложившегося мужского господства, пользуясь которым, мужчины обменивались родными женщинами и так заключали между собой союзы. Если конкретный мужчина господствует над конкретной женщиной лишь в браке, то этому должно было предшествовать господство всех мужчин над всеми женщинами как группой в общекультурном плане. Но как это сложилось?
Известно, что у ближайших человеку приматов шимпанзе самки обычно покидают группу, в которой родились, и в поисках спариваний уходят в другие группы. Самцы этот процесс не контролируют. Человек же когда-то поставил эти женские перемещения между группами под мужской контроль. Несмотря на пестроту данных по приматам и вопреки популярному мнению, у обезьян нет чёткого господства самцов над самками: жизнь самцов и самок сильно похожа на существование двух параллельных групп, отдельные представители которых лишь периодически пересекаются. Отличительной особенностью группы самцов является борьба за статус, для чего устраиваются сложные политические игры, заключаются самые настоящие союзы, причём самки в этом процессе играют важную роль, потому что без их поддержки стать альфа-самцом затруднительно. Поэтому особи, претендующие на роль вожака, стараются заслужить расположение самок. Кроме этого, приматологам известны случаи, когда альфа-самец терял благосклонность самок, и тогда они агрессивно загоняли того на дерево, демонстрируя силу своей солидарности. Попытки господствовать над самками наблюдаются у разных видов обезьян, но в целом «в отряде приматов отсутствует однозначная закономерность доминирования мужского пола над женским», указывают приматологи [28]. Но особенно показателен пример бонобо, у которых обычно даже самки доминируют над самцами: как показывают последние данные, это достигается тем, что самки образуют коалиции, направленные на урезонивание наиболее агрессивных самцов [219].
Антропологи отметили ещё один аспект брачных отношений. Для типичной схемы характерно то, что мужчина обретает не только жену, но и союзников в лице её отца, дяди и братьев. То есть брак выступал способом налаживания политических союзов между мужчинами. Хотя это и важный момент, но вряд ли он был главным мотивом обзавестись женой, скорее просто существенным бонусом, ведь в случае реального похищения невесты (без сговора с родственниками), такой муж никаких союзников не обретал, а даже наоборот наживал врагов.
Антрополог Менелаос Апостолоу [105] собрал данные по 190 обществам собирателей, чтобы понять широту распространения договорных браков – то есть когда брачного партнёра выбирают родители или другие близкие родственники, – и выявил, что такая организация брака является ведущей в 87% этих обществ. Причём в большинстве случаев решающий голос принадлежал именно мужчинам. Кроме очевидного, Апостолоу обратил внимание, что такая организация браков свидетельствует об отсутствии полового отбора в том виде, как его преподносят спекулятивные гипотезы социобиологов и эволюционных психологов, так как муж и жена здесь не выбирают друг друга прямо за какие-либо качества. Апостолоу отдельно подчеркнул: «Интересен тот факт, что такие черты, как физическая привлекательность, не учитываются родителями при оценке потенциальных родственников», что ещё раз говорит о большой умозрительности гипотез о роли генов в выборе партнёра. Впрочем, и без того нельзя было сказать, что биологизация брака, то есть взгляд на поиск партнёра как на способ решения каких-то биологических вопросов (секс, размножение, гены), является магистральным в антропологии: какая-то часть специалистов действительно считает это важным фактором, но всё же значительную поддержку получает взгляд, что брак скорее решает какие-то политические вопросы, выступает механизмом создания союзов между мужчинами; в крайнем случае кто-то считает, что брак решает хозяйственные вопросы, обусловленные половым разделением труда (хотя этот взгляд уже устарел). Этнография слишком богата данными, не укладывающимися в биологический подход к браку. Некоторые индейцы Северных равнин (манданы, хидатса, арапахо и др.) делились своими жёнами с сильными и статусными мужчинами, так как верили, что через сексуальную связь с женщиной могут перенимать силу друг друга; у многих других народов вовсе существовали праздники, во время которых дозволялся внебрачный секс с любым партнёром (в советской литературе – оргиастические праздники) – так было и у австралийцев, и у эгалитарных амазонских пираха. Порой встречаются сведения, как в том или ином обществе мужчина может отказаться от жены или обзавестись второй, если первая не может родить, но нюанс в том, что даже в этом случае работает интерпретация брака как механизма по созданию политических союзов между мужчинами. Дело в том, что имеющий детей мужчина является обладателем дочери, которую в будущем можно отдать другому мужчине в обмен на его поддержку, или обладателем сына, который сам однажды получит чью-то дочь и, следовательно, также вовлечёт отца в ширящуюся сеть политических связей. Широкая родственная сеть действительно важна для многих собирателей. «Назвать аборигена «сиротой», «безродным» – значило оскорбить его самым тяжким образом», пишет О. Ю. Артёмова об австралийцах [5, с. 317]. «Считалось, что у каждого человека в определённом возрасте должен быть некоторый минимум «собственных» родственников, чтобы он мог жить сравнительно благополучно». Кроме прочих трактовок такого положения, возможна и та, в которой большая родственная сеть выглядит реальной силой, устрашающим механизмом, повышающим статус аборигена. Конфликт с таким автоматически означал бы последующий риск отмщения со стороны его братьев, отца, дяди и других мужчин, с которыми абориген мог заключить союзы путём брака на их дочерях или выдавая за них своих собственных. В кулуарах одной конференции такая трактовка была метко охарактеризована фразой «У него брат боксёр», хорошо понятной каждому. Между прочим, такая трактовка заодно означает, что создание института брака в древности происходило в условиях высококонфликтного общества. Высказывалась и мысль, что ближайшие родственные человеку обезьяны потому патрилокальны – то есть самцы остаются в стаде, где родились, а самки свободно уходят в другие стада, – потому что самцы разных групп весьма агрессивны друг к другу, и в случае перехода им грозит смерть. Это снова может говорить о древней конфликтности предков человека.
Другая группа учёных использовала данные Апостолоу в исследовании с использованием митохондриальной ДНК многих собирателей, чтобы выявить древность практики договорных браков [228]: поскольку они оказались характерны для собирателей всех континентов, то практика эта зародилась либо до выхода первых сапиенсов из Африки, либо же сразу после этого – авторы дают осторожную датировку «не позднее 50 тысяч лет назад». При этом в исследовании возникает неопределённость относительно древнейшей африканской популяции сапиенсов, предковых для всего позднего человечества: были ли у них договорные браки или же браки по ухаживанию и личной симпатии, так как в выборке собирателей Африки отмечены обе формы брака. Авторы всё же взяли смелость заключить, что для древнейших людей (ещё до выхода из Африки) всё же были характерны именно договорные браки, а браки же по личной симпатии возникли у некоторых популяций позже – только под влиянием экспансии скотоводов банту несколько тысячелетий назад. Кроме этого, пигмеи мбути в исследовании были отнесены к обществам с браком по личной симпатии, но это очень спорный вопрос, учитывая приведённый выше демонстративный случай принуждения к браку пигмейки её братом (который вряд ли был единичным). Известно, что пигмейские женщины часто переходили жить в деревни соседей-земледельцев и рожали детей в смешанных браках. В XX веке в деревнях негров-земледельцев пигмеек становилось всё больше, а у самих пигмеев их становилось всё меньше. Но как так сложилось? Дело в том, что соседи банту просто скупали у пигмеев их женщин. Но кто же продавал неграм юных пигмеек, если не отцы, дяди или братья? Действительно, известно, что пигмейские отцы порой становились должниками деревенских негров и взамен обязались отдать им свою дочь – даже ещё нерождённую: «судьба девушки определяется заранее – ещё до её рождения или в раннем детстве» [222]. Генетика показывает, что скрещивание пигмеев с соседями началось около 1000 лет назад, и при этом имело одну особенность: «оно происходило односторонним образом», пишет генетик Кинтана-Мурси. «Мужчины-земледельцы скрещивались с женщинами-пигмеями, но вот обратный случай – большая редкость!» [54]. Такой дисбаланс дополнительно свидетельствует в пользу продажи женщин мужчинами, в связи с чем пигмеев трудно отнести к обществам с браком по личной симпатии.
Выдача замуж против воли описана почти во всех обществах, и это о чём-то говорит. Брачные обряды самых разных обществ содержат символику насильственного завладения женщиной или даже добывания её в качестве дичи. Почему у собирателей всего мира именно мужчины испытывают такое сильное рвение ко вступлению в брак, что готовы заключать его даже против воли будущей жены и с применением насилия? Что за смыслы видел мужчина-охотник в браке, что соглашался ради него на многое: выкупить невесту, отработать за неё перед родителями и даже вступить в кровавый конфликт с другой группой, а порой и применить физическую силу к самой женщине? Ради чего всё это? В антропологии это всегда оставалось большой загадкой, и в финале книги будет предложен ответ.
Конечно, практика договорных браков касалась не только невест, но и женихов, но нюанс в том, что если этнографы когда и фиксировали сопротивление брачному выбору родни, то оно почти всегда было со стороны невесты: жених относился к своей участи куда спокойнее. Ему будто бы вообще было без разницы, кто будет его женой. Антропологи подробно описывали, что главные преимущества от брака получают именно мужчины, тогда как положение женщины ухудшается, свобода её значительно ограничивается, а бытовых обязанностей прибавляется. В разрозненном виде такое положение вещей подчёркивали многие, но в 1981-м Джейн Коллиер и Мишель Розальдо взялись внимательно изучить роль брака в жизни мужчин и женщин у африканских !кунг, австралийских мурнгин и филиппинских илонготов. Авторы пришли к выводу, что брак был ориентирован именно на мужчину, так как это его статус резко повышался после женитьбы, а вот статус замужней женщины менялся в меньшей степени. Поэтому логично, что в то время, когда молодые мужчины нуждались в жёнах, молодые женщины не считали себя нуждающимися в мужьях, и поэтому брак почти всегда сводился к тому, что мужчина старался задобрить родственников конкретной невесты.
«Брак знаменует собой критический переход в жизненном пути мужчины. Из странника и нарушителя спокойствия он превращается в уравновешенного и ответственного взрослого человека. Как только у него появится жена, которая будет поддерживать огонь и строить себе жилище, он получит место в лагере… Кроме того, брак позволяет мужчине стать эффективным социальным действующим лицом. Он может играть роль хозяина и приглашать других разделить очаг, еду, а в некоторых случаях и сексуальные услуги, оказываемые его женой. Он может высказывать своё мнение и рассчитывать, что его услышат на общественных собраниях. И как мужчина, чьи основные потребности обеспечены, он может посвятить своё время построению сетей обмена, которые повышают социальное влияние и престиж» [127].
Об этом же писали исследователи южноамериканских индейцев тукано: «Все тукано признают, что, вступая в брак, женщина идёт на бóльшие жертвы, чем мужчина» [168]. Досконально изучив браки африканских хадза, Николас Блёртон-Джонс приходил к тому же выводу, что брак оказывался выгоднее для мужчин, чем для женщин [118, p. 310]. Такой же была участь жены у бушменов. В предыдущем разделе жизнь женщины в браке была описана весьма подробно. Как сложился столь фундаментальный институт, свойственный всем обществам без исключения, плата за который для женщин так высока, для антропологии до сих пор загадка.