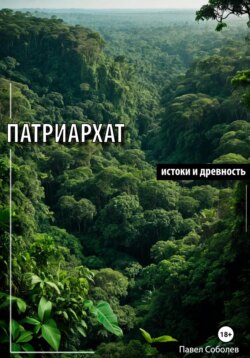Читать книгу Патриархат: истоки и древность - Павел Соболев - Страница 3
ЧАСТЬ 1: Факты
1. УСМИРЁННЫЕ ОБЩЕСТВА
ОглавлениеПопулярный взгляд, будто охотники-собиратели, описанные в разных частях света, являют собой живой образец нашего «доисторического прошлого», в антропологии давно отвергнут. В действительности почти все эти народы имели длительную историю контактов как с европейскими колонизаторами, так и с вооружёнными силами других соседних обществ: бушмены столетиями воевали с бантуязычными скотоводами, а потом и с европейцами; хадза воевали с масаи и с датога; африканские пигмеи натерпелись от бельгийских колонизаторов, а в ещё более раннем прошлом, возможно, и от других соседей; андаманцы и батек веками терпели набеги малайцев, отлавливавших их для продажи в рабство, а индийские палияр когда-то были вытеснены в горы нагрянувшими скотоводами. Можно ли, зная всё это, утверждать, что дошедшие до наших дней культуры названных народов веками оставались неизменными? Можно ли утверждать, что эти народы всегда были такими эгалитарными и кроткими, как их описывали этнографы XX века? Вероятно, это будет затруднительно.
«Усмирение» или «интимидация» (т.е. устрашение) – этими терминами в антропологии описывают итоги воздействия какой-либо могущественной силы на аборигенные народы. Для многих ныне известных миролюбием собирателей сохранились описания, как их внутренние враждебные стычки прекращались только с приходом колониальных европейский администраций. Насилие, как известно, является монополией государства, но для монополизации ему приходилось сделать некоторые шаги. В этом плане интересны аборигены Австралии и папуасы некоторых районов Новой Гвинеи: именно они были теми редкими народами, кому посчастливилось столкнуться с преобладающей силой (в лице европейцев) одними из последних. При этом, совпадение или нет, но именно эти народы славились своей воинственностью по отношению друг к другу, а также ярким мужским господством по отношению к женщинам. Это может наталкивать на определённые мысли.
Трудно сказать, судьба какого ныне эгалитарного народа сложилась наиболее трагично, но бушменов в XVIII-XIX веках могло быть уничтожено до 200-300 тысяч человек, и расправы над ними со стороны белых поселенцев были обычным делом даже в начале XX века. Бушменов отстреливали для продажи их скелетов американским музеям, но чаще всего – за их угрозу скотоводческим фермам. На бушменов устраивали облавы с собаками, сжигали заросли вместе со спрятавшимися в них людьми, травили и без того редкие в пустыне источники воды, что обрекало бушменов на смерть.
Но и до столкновения с европейцами бушмены веками участвовали в конфликте с народами скотоводов, однажды пришедшими в эти места. Было ли при этом бушменам дело до сохранения своих древних укладов? К середине XX века осталось лишь около 10% от всей популяции. Народ был почти уничтожен и загнан в угол, следовательно, полагать, что на протяжении всей своей истории, тысячелетиями, он жил именно так, как зафиксировали этнографы XX века, кажется неаккуратным предположением. У многих групп бушменов известны легенды о Цагне (Кагне) – богомоле-трикстере, главном герое их фольклора, но вот у южных бушменов !ко таких легенд нет, зато есть почтительное отношение непосредственно к самим богомолам, что может указывать, что когда-то легенды о Цагне бытовали и здесь, но были утрачены. Современной бушменологией существование когда-то в древности большой панбушменской культуры (то есть общей для всех бушменов) общепризнано [108, p. 84], – просто однажды большой народ был расколот на разные группы, часть из которых к нашему времени уже и просто исчезла.
Всегда ли бушмены были кротким эгалитарным народом, который застали исследователи XX века? Не могли ли длительные кровопролитные столкновения с пришельцами разрушить давнюю культуру бушменов, сохранив от неё лишь осколки?
Пигмеи центральной Африки – другой народ собирателей, считающихся эгалитарными. Но и они веками взаимодействовали с пришлыми земледельцами-неграми, с которыми позже не только установили обмен добываемой дичи на продукты земледелия, но и стали скрещиваться – в некоторых популяциях пигмеев примесь соседей достигает 50%. В науке давно идёт спор, можно ли считать пигмеев вассалами соседей-земледельцев, или же это просто пример взаимовыгодного сотрудничества. Тот факт, что для негроидных соседей в языках пигмеев сохраняются оскорбительные названия, тоже может о чём-то говорить. В XX веке большинство групп пигмеев уже в значительной степени говорили на суданских языках и языках банту. Большой удар пигмеи получили на рубеже XIX-XX веков при бельгийском господстве, когда их тысячами угоняли на сбор каучука, а детей отправляли в зоопарки Европы. Солдаты колониальных властей не щадили маленький народ, и сколько всего пигмеев было уничтожено за время бельгийского господства, никто не знает.
Народ хадза́ Восточной Африки, который наука «открыла» одним из последних, возможно, избежал ранних контактов с европейцами, но точно веками контактировал с соседними земледельцами и скотоводами, причём с последними (особенно с воинственными масаи) контакты были настолько кровопролитными, что, по данным генетики, в конце XIX века популяция хадза даже прошла через «бутылочное горлышко», то есть значительное сокращение численности. Предания хадза сохранили память о тех событиях: «У нас было очень много людей, и наши владения простирались от Усукумских гор до склонов Ольдеани. И вот однажды к нам явились масаи. Они пришли сверху, с полуночных гор Тсаузаго. Неподалеку от Эяси масаи столкнулись с хадзапи и почти всех их уничтожили» [57, с. 73]. Во второй половине XX века исследователи описывали культуру хадза как эгалитарную: мужчины и женщины были равны, вождей не было. Но, как будет показано дальше, эта картина была сильно преувеличенной, что антропологи позже начали признавать. Достаточно лишь углубиться в предания самих хадза, чтобы понять, что в былые времена они были заметно другими. В 1930-е рассказы этого народа собрал Людвиг Коль-Ларсен, и из них следовало, что раньше хадза воевали не только с соседними скотоводами, но и друг с другом, причём делали это с интересом.
«С давних пор отдельные орды хадзапи воюют между собой. Так, орда, что живёт здесь, в Манголе, идёт к орде, живущей в другой стороне, в Лубиро, по приходе на место люди выбирают какого-нибудь мужчину. Он подходит к жителям Лубиро и говорит:
– Мы пришли победить вас!
Кто-нибудь из лубирцев отвечает:
– Ну что ж! Раз вы пришли, мы охотно сразимся с вами».
Предания рассказывают, как хадза убивали женщин друг друга, а также то, что некогда были мужчины, которых народ наделял ролью вождей: «Ты должен быть первым среди нас!» ликовали хадза в преданиях, одаривая нового предводителя перьями страуса. О культурном герое по имени Индайя говорили «это он был нашим первым вождём». И да, хадза, как и охотники-собиратели по всему миру, враждовали из-за женщин [57, с. 135].
В русскоязычной науке о хадза писала главным образом М. Л. Бутовская, и в ранних её статьях народ этот представал именно как эгалитарный. Лишь в более поздних работах учёная признавала: «сегодня следует пересмотреть конвенциальные представления об обществах бродячих охотников-собирателей, как об обществах в высшей степени эгалитарных и не проявляющих интереса к богатству» [29], а в книге «Антропология пола» 2013 года открыто использовала термин «лидеры» применительно к обществу хадза, отмечая, что лидерство в некоторых случаях подчёркивается обладанием несколькими жёнами, а также то, что, вопреки стереотипу, лидеры порой всё же могут принимать решения за всех членов группы или устанавливать определённые правила поведения в рамках своей группы (с. 122).
«Анализ накопленных к настоящему времени данных о взаимоотношениях в группах бродячих охотников-собирателей, позволяет говорить о том, что "первобытный коммунизм" – не более чем мифологема, созданная учёными: в реальной жизни абсолютного равенства по-видимому в человеческих обществах никогда не существовало» [29].
Ближе к 1970-м этнографы «открыли» в джунглях Парагвая народ аче (гуаяки). С удивлением учёные узнали, что северная группа аче даже не умеет разводить огонь – хотя у народа сохранились предания, что предки когда-то огнём владели. Как оказалось, в действительности несколько столетий назад аче были земледельцами, но из-за конфликтов с соседними группами индейцев гуарани со временем были тесными в неблагоприятные районы джунглей, где их культура претерпела значительный регресс, у некоторых групп, видимо, включая и утрату огня. Так аче стали охотниками-собирателями. Позже аче столкнулись с испанским завоеванием и фактически с охотой на них, объявленной священниками-иезуитами для обращения их в христианство: многие были уничтожены в процессе самой «охоты», а другие же умирали в плену. Но и много позже – в XIX и даже в XX веках – аче продолжали подвергаться активному истреблению: в 1940-1970-е на аче охотились местные фермеры, стреляли из ружей или рубили мачете, а зачастую и просто делали объектами работорговли. К тому моменту аче и так уже были малочисленны, но за тот период было уничтожено ещё около 85%. Когда в 1970-е этнографы приступили к изучению исчезающих аче, то удивились их миролюбию, значительному равенству полов и сексуальной свободе женщин, но при этом уже было неясно, что за народ они изучают.
Южноиндийские собиратели палияр, славящиеся своим миролюбием и равенством полов, также давно говорят на тамильском языке – языке своих соседей-земледельцев. Археология показывает, что около 3 тысяч лет назад пришлые народы стали теснить палияр из исконных мест в непривычные им горы [210], что почти наверняка означает конфликты в древности. К тому же, как отмечают антропологи, у палияр удивительным образом отсутствовали инициации и деление на половозрастные группы, что является общей чертой почти всех человеческих обществ, и это также можно расценивать как утрату народом своей исконной культуры.
Другой эгалитарный народ Азии – филиппинские аэта (агта), миролюбие которых и равенство полов часто упоминаются. Важным оказалось, что аэта не жили изолированно или независимо от соседских народов, как считалось в науке до 1980-х. Поздние исследования установили, что аэта плотно взаимодействовали с земледельческими народами не просто веками, но и тысячелетиями: более 5 тысяч лет назад Филиппины стали заселять австронезийские народы, что в итоге привело к тому, что современные аэта также говорят на их языках и имеют от 10 до 30% примеси их генов, что указывает на радикальную плотность контактов. Считается, что уже около 3 тысяч лет назад аэта отошли от своего чисто охотничье-собирательского образа жизни и перешли на симбиотическую связь с новыми соседями, с которыми наладили обмен. К тому же периодически аэта становились жертвами работорговли, после чего их продавали на Борнео и в Китай.
Малазийские батек (подгруппа семангов) – ещё один ныне эгалитарный народ охотников-собирателей. Веками малайцы охотились на них для продажи в рабство. Это было подробно описано авторами XIX века, в том числе и Миклухо-Маклаем. Обычно в плен брали только женщин и детей, а мужчин убивали на месте. Со временем батек подключились к ловле друг друга: они охотились на взрослых и детей своих же соплеменников, чтобы затем обменять у малайцев на пустяковые товары. Случались набеги и со стороны соседних сиамцев, которые также стремились забрать батек в качестве рабов, некоторых из которых даже выставляли на ярмарках как развлечение (батек, как и все семанги, были маленького роста, их даже называют пигмеями Юго-Восточной Азии). В 1924 году старый батек вспоминал далёкое нападение сиамцев, гнавших батек перед собой, «как диких животных, и уводивших их детей» [138]. При этом характерно, что раньше батек пользовались луками, но на протяжении XX века по какой-то причине от них отказались – возможно, именно регулярное насилие со стороны соседних народов привело к изменению культуры.
Одно из первых упоминаний о порабощённых семангах, среди которых могли быть и батек, относится аж к 724 году н.э., когда малайская империя Шривиджая среди прочей дани передала Китайскому двору и «двух рабов-пигмеев», племена которых обитали на юге. Зная, что отлов и угнетение батек происходили на протяжении минимум 1200 лет, можно ли полагать, что они сохранили свою исконную культуру?
Аборигенов Андаманских островов авторы рубежа XIX-XX веков описывали исключительно эгалитарными. Но знакомство этого народа с западной цивилизацией случилось на 100 лет раньше – в 1789 году, когда Британия завладела Индией и протянула руки к ближайшим островам. Столкновения бывали кровопролитными. Если в начале контакта численность народа оценивалась в 3500-5000 человек, то позже их оставалось всего 700. Считается, что андаманцы прожили в изоляции 30 или даже 50 тысяч лет, но это не совсем так. Историкам известны записи разных эпох, свидетельствующие о том, что об андаманцах знали, а значит, контакты случались [87]. При этом репутация аборигенов была не самой лучшей: почти всегда они упоминались как каннибалы. Ещё во II веке географ Клавдий Птолемей нанёс Андаманы на карты и назвал Островами каннибалов. В этом же контексте аборигенов упоминали позже китайские, арабские и итальянские путешественники. Даже в 1625 году купец Чезаре Федериче говорил о дикарях, поедающих друг друга и всех случайных жертв кораблекрушений. Представляли ли андаманцы действительно такую опасность, или это просто вымыслы, никто уже не скажет, но что андаманцы действительно убивали жертв кораблекрушений, свидетельствовали записи XIX века.
До контакта с британцами на андаманцев веками совершали набеги всё те же малайские работорговцы – добирались до островов и захватывали аборигенов для продажи.
Первые подробные описания народа оставил Эдвард Гораций Мэн в 1883 году, а основательное же изучение народа знаменитым антропологом Рэдклифф-Брауном состоялось вовсе в 1906 году. Но и к этому времени, возможно, произошли какие-то изменения культуры аборигенов: если Мэн писал о наличии вождей и при этом указывал, что «женщины не могут быть вождями», то Рэдклифф-Браун 20 лет спустя утверждал, что «дела общины регулируются исключительно старшими мужчинами и женщинами». То же самое оба писали о местных шаманах: первый, что ими могут быть только мужчины, а второй позже, что и женщины тоже, хоть и редко. Сейчас уже нельзя установить, были ли эти расхождения следствием реальных перемен культуры за 20 лет или же лишь неточностями описания одного из авторов, так как других столь подробных и ранних описаний быта андаманцев просто нет. Что характерно, Рэдклифф-Браун хоть и писал о редкости кровавых стычек между самими аборигенами, но всё же признавал, что это было скорее заслугой колониальных властей, а в прошлом таких конфликтов было больше. Для наглядности он приводил в пример случай, когда власти повесили андаманца за убийство, после чего среди аборигенов Большого Андамана «не было ни одного случая убийства, что, возможно, отчасти объясняется наказанием, которое теперь грозит им со стороны правительства, но другая причина, вероятно, заключается в разрушении старой социальной организации, которое в этом отношении скорее улучшило их моральные качества, чем наоборот» [200, p. 49].
Амазонские индейцы пираха, наделавшие шума необычной структурой их языка, привлекают внимание и равноправными отношениями: у них не только нет вождей и мужчины не господствуют над женщинами, но даже и взрослые никак особо не доминируют над детьми. Жизнь пираха выглядит идиллией, где даже малейшее применение физической силы немыслимо. Но выводы о древности такого уклада сомнительны, ведь ещё 300 лет назад пираха сталкивались с португальцами, а историю их возможных конфликтов с другими народами индейцев мы не знаем. Дэниел Эверетт указывает, что, по некоторым языковым данным, пираха могут быть пришлыми в этих местах [100, с. 48], около 500 лет назад перебравшись из Перу, – одно это уже может говорить о бегстве от испанского завоевания. При этом один из пираха рассказывал: «Отец мне говорил: он видел, как его отец убивал других индейцев. Но сейчас мы так не поступаем. Это плохо» (с. 115). То есть вероятна просто смена всей культурной парадигмы, случившаяся однажды (возможно, и не так давно). Отсутствие у пираха какой-либо религии и даже мифологии также свидетельствует об утрате исконной культуры. Под действием каких обстоятельств это случилось, можно гадать, но противостояние с испанцами, затем с португальцами или с соседними народами в этой роли вполне допустимо.
С другой стороны, называть современных пираха мирными и эгалитарными, будет неосторожным. Эверетт пишет, что у них всё же «случаются вспышки агрессии, от умеренных до очень жестоких», и добавляет, что его жена однажды «была свидетельницей, как почти все мужчины в селении по очереди изнасиловали молодую незамужнюю девушку» (с. 98). Интересны и описания Эвереттом мужчин пираха, напившихся допьяна: однажды они, несмотря на долгое знакомство, пытались убить его и всю его семью, и очень много дрались между собой, заливая кровью округу. Один из таких случаев описан так:
«Через пару часов я стал слышать смех, а затем вопли и похвальбу, какие они храбрые и сильные; один даже сказал кому-то: «Я тебе надеру задницу». Это были обычные пьяные разговоры, как в любой другой стране мира. Мой отец, ковбой и гуляка, когда напивался, вёл себя практически так же, как индейцы пираха» (с. 84).
Когда мужчины напивались, женщины с детьми покидали селение, вероятно, расценивая первых как угрозу. И женщины же потом просили миссионеров препятствовать мужчинам в получении алкоголя от случайных торговцев. Интересно, что и упомянутые выше южноиндийские палияр старались избегать алкоголя, так как он делал их буйными. Всё это указывает, что тихое и эгалитарное поведение аборигенов таких обществ обусловлено именно специфическими культурными установками, действие которых под влиянием алкоголя нарушается, высвобождая какие-то глубинные установки.
Как столкновение с могущественным врагом и последующее ему подчинение меняют нравы народа, можно проследить на примере обширной группы южных эскимосов Аляски, с которыми русские мореходы вошли в плотный контакт во второй половине XVIII века. Узнав о богатстве края пушниной, купцы и казаки, да и сама царская казна решили взять промысел под свой контроль, а местное население заставить работать на себя. Десятилетиями эскимосы оказывали яростное сопротивление, а русские мореходы оставляли записи об их буйном нраве, мстительности и жестокости. Сохранилась речь мужчин острова Кадьяк (конягов), несмотря на большие потери, отказавшихся подчиниться русским: «Коняги люди воинственные и сердца у них долгие (злопамятные); а вас мы считаем хуже баб; как мы можем быть согласны с такими людьми и даже покориться им, когда нас боятся все соседи и нам послушны… а потому иметь дружбу с русскими способа нет и надобности не предвидится» [37]. Только в 1784-м благодаря большому военному превосходству русских аборигенов удалось подчинить. На протяжение всего периода ранних контактов с эскимосами моряки и купцы описывали их как крайне воинственный народ, который также промышлял нападениями друг на друга. Но картина изменилась меньше чем за 30 следующих лет. Уже ближе к 1820-м путешественники начали писать о южных эскимосах как о людях очень кроткого нрава: от былой воинственности не осталось и следа. В 1830-е Фердинанд фон Врангель, писал о местных: «Народ сей так запуган, что стоило немалого терпения развязать им языки, чтобы объяснили мне свои нужды», а запись морского офицера уже в 1863 году сообщала: «По характеру они чрезвычайно смирны, покорны и добры; терпеливы в перенесении всяких лишений, некорыстолюбивы; но обидчивы, хотя и стараются это скрывать». Сходный эффект произвело завоевание европейцами континентальной части Северной Америки, когда пару столетий спустя индейцы, прежде слывшие крайне воинственными и жившие за счёт набегов на соседей, стали образцом смирения.