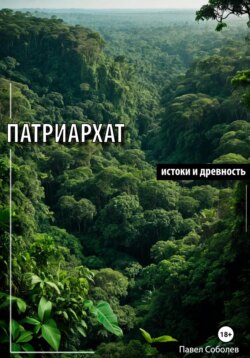Читать книгу Патриархат: истоки и древность - Павел Соболев - Страница 9
ЧАСТЬ 1: Факты
2. ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ У СОБИРАТЕЛЕЙ
Другие элементы презрения к женщине
ОглавлениеИз приведённых свидетельств видно, что женщина во всех обществах была не только угнетаема в силу эксплуатации её физического труда, но в отношении неё существовало и вполне ощутимое презрение как таковое с позиций культурной идеологии. И способы выражения этого презрения могли быть очень разнообразными. Наиболее хорошо подобное было изучено у австралийских аборигенов. Австраловед О. Ю. Артёмова [5] приводит заметки этнографов прошлых лет: «Уважающий себя мужчина, по традиционным понятиям аборигенов, не станет много разговаривать с женщинами. Поэтому некоторые этнографы старались поменьше общаться с женщинами-аборигенками – как из опасения вызвать ревность мужчин-аборигенов, так и из опасения утратить их уважение. Мужчины не будут доверять этнографу в серьёзных делах, если увидят его подолгу говорящим с женщинами» (с. 356). «Макнайт приводит такой эпизод из жизни аборигенов о-ва Морнингтон: “Мужчина (маленького роста и отнюдь не воин, но тем не менее мужчина) пришёл в крайнее негодование, когда одна женщина перешла границы и пыталась сказать своё слово в каком-то общем обсуждении. Он страстно скомандовал: “Держись в стороне от этого. Я – мужчина”. А она ответила с преувеличенной готовностью: “О, я прошу прощения” и отошла в сторону».
Презрение к женщине может выражаться во множестве нюансов, в бытовых мелочах, которые далеко не всегда очевидны. Это может проявляться в питании: в его качестве и в самом процессе. Даже в начале XX века в крестьянских семьях Европы обычным делом было, что «лучшие куски мяса получали лишь мужчины, а женщины довольствовались кусками худшего качества» [46, с. 50]. Тенденция эта, конечно, весьма древняя. Исследование костей китайцев 3-4 тысячелетней давности показывает, что женщины питались хуже мужчин, отчего страдали заболеваниями костей, вызванными недостатком железа и витаминов [135]. Несмотря на то, что в хозяйстве той эпохи уже были одомашненные коровы и овцы, в рационе женщин преобладала в основном растительная пища, а мясо употребляли мужчины. Но вновь ошибочно будет полагать, будто такое положение вещей возникло лишь с переходом к земледелию и скотоводству: в действительности у многих народов собирателей обнаруживается сходная тенденция. У некоторых австралийских аборигенов «женщины, независимо от их возраста или репродуктивного статуса, обычно получали меньшую долю мяса, чем мужчины; и им часто не разрешалось есть животный жир. Порядок приоритета распределения пищи – старики, охотники, дети, собаки и женщины» [217, p. 158]. У южноамериканских индейцев (например, кубео) женщины также едят после мужчин. У эгалитарных собирателей Южной Индии малапантарам «мужчины, как правило, получают самые отборные куски» [145].
У многих охотничьих народов лучшие куски добытой дичи (как правило, это самые жирные куски) считаются мужскими – женщинам их нельзя. У разных групп австралийцев деликатесом считались разные виды дичи, но в любом случае на них претендовали только старшие инициированные мужчины: у одних «особенно вкусным и питательным считалось мясо игуаны, его могли есть только старшие мужчины», у других «особенно ценилось мясо дюгоня, женщинам и молодым мужчинам в традиционных условиях запрещалось его есть» [4, с. 99].
Нередко охотники поедают лучшее мясо прямо на месте, а в лагерь несут лишь остатки. Исаак Шапера описывал традиции потребления дичи бушменами !кунг. Всё мясо, добытое стрелой, является табу (soxa), и его нельзя есть до тех пор, пока его не попробует один из статусных мужчин (гей-койб). «Печень, однако, съедается мужчинами сразу же после того, как животное было разделено, и, таким образом, исключается из сферы действия soxa для мужчин, но для женщин это soxa» [206, p. 99]. При этом для женщин в принципе существует единственная часть туши, которую можно есть, – так называемая часть ное-ди (ǂnoe-di), которую женщины могут разделять и с детьми. Считается, что если женщины съедят какое-либо другое мясо, кроме ное-ди, то впоследствии яд стрелы не потечёт после попадания в животное, а значит, испортит охоту.
У пигмеев ака «мужчины и женщины едят отдельно, и во время общения люди сидят группами по полу» [180, p. 111]. Исследование зубов пигмеев мбути, эфе и ака [227] показало, что мужчины реже страдают кариесом и в целом имеют больше сохранных зубов, чем женщины. Это объяснялось пищевыми традициями: мужчины едят больше мяса, тогда как в рационе женщин преобладает растительная пища. Фрукты и клубни богаты крахмалом и другими углеводами, которые способствуют развитию кариеса, в то время как белковая и жирная пища (как мясо) таким свойством не обладают. Как хадза и бушмены, пигмеи полагают некоторые части добытой дичи сугубо «мужской», которую есть могут только мужчины: это голова, печень и сердце животного. У мбути мужчины ели отдельно от женщин, располагаясь в центре лагеря, при этом предводитель коллективной охоты получал все головы добытой дичи и уже сам делил их с другими мужчинами. Среди прочего, исследование обнаружило, что лидеры также имеют в целом большее количество сохранных зубов и ещё реже сталкиваются с кариесом, чем рядовые мужчины, что может свидетельствовать о неравномерном распределении мяса даже среди мужчин. Описывая ограничения женщин мбути на питание мясом, Мицуо Итикава добавлял: «женщинам в регионе Тетри полностью запрещено есть оленьков и антилоп Бате. Говорят, что если женщины будут есть этих запрещённых животных, то это испортит охоту. Напротив, только женщины и дети могут есть лягушек, пресноводных крабов и улиток. Однако когда они едят этих животных, их не следует готовить в той же кастрюле, в которой готовится еда. Это может испортить охоту» [166].
Даже у известных своим равноправием хадза есть ритуал, в секретной обстановке которого мужчины поедают самые жирные куски добытого мяса, считающиеся священными, – женщины на ритуал не допускаются под угрозой изнасилования и даже смерти (подробнее об этом поговорим дальше). Но даже в случае потребления обычной (не священной) пищи у хадза видна иерархия полов. «У них существует практика раздельного приёма пищи – мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. В случае нехватки посуды мужчины едят первыми. В отдельных случаях, по желанию мужа трапезничают малой семьёй (муж, жена и дети)» [30].
Отмеченная практика раздельной трапезы мужчин и женщин когда-то существовала по всему миру. Пример хадза позволяет понять, что оба пола могут есть вместе, но только если этого захочет муж, – значит, не мужчинам запрещено есть с женщинами, а именно женщинам с мужчинами. В этом ключе можно слегка скорректировать наблюдение С. А. Токарева об этой практике. «У многих народов обычай запрещает мужчинам и женщинам совместно принимать пищу. У полинезийцев это связано с их широкой системой табу, носящей сакральный характер; в этой системе запрещение мужчинам обедать вместе с женщинами было одним из самых строгих. Недаром гавайский король-реформатор Камеамеа II, решившийся упразднить старую религию (1819 г.), начал с того, что резко нарушил этот освящённый авторитетом богов запрет – вошёл к своим жёнам и стал вместе с ними есть» [92, с. 130].
В реальности Камеамеа II был долго подстрекаем собственной матерью и другими статусными женщинами, чтобы решиться на такой шаг: они просили его публично нарушить древнее табу, потому что сами не могли себе такого позволить [192]. В описанном жесте видно, что, как и у хадза, именно мужчина может позволить себе перешагнуть запрет, следовательно, это запрет больше для женщин, а для мужчин же скорее соображение престижного характера, не рекомендующее есть в кругу людей более низкого статуса. Игнорируя такое соображение, мужчина демонстрирует снисходительность. Эта практика совпадает с сакральной сутью мужского дома, бытовавшего у многих народов древности: когда место собрания мужчин было запретно для посещения женщинам, тогда как мужчины без труда могли входить в семейные хижины женщин, но тоже, желательно, на непродолжительное время. Данные практики, вероятно, сопряжены с повсеместными представлениями о женской нечистоте, угрожающей мужчине, о чём подробно будет рассказано во второй части книги. Здесь же стоит отметить, что представления о нечистоте не связаны лишь с менструацией или беременностью, как широко принято думать, – в действительности эти представления связаны с мыслью об общей и глубинной инаковости женщины, которая угрожает мужчине в случае взаимодействия. Исключение женщин из сферы священного среди собирателей обусловлено в первую очередь представлениями о «низшей природе» женщины в целом, что и отражено в мифоритуальных комплексах, древность которых будет показана дальше.
Кроме всего упомянутого, более низкий статус женщин в разных обществах охотников-собирателей выражен в траурных обычаях и в похоронных обрядах: во многих культурах в случае смерти мужа женщине предписано держать более длительный траур, чем вдовцу, которому траур по поводу смерти жены может быть и вовсе не предписан. Похороны женщины также традиционно обставлены меньшей ритуальной атрибутикой, чем похороны мужчин, что снова обозначает их меньшую значимость.
В приведённых выше примерах можно заметить один нюанс. Эксплуатация женского труда осуществляется главным образом в браке: сооружение хижины для мужа, таскание дров для приготовления ему еды и т.д. Уже само по себе это наводит на определённые вопросы. Сам брак каким-то образом создаёт условия для индивидуального подчинения отдельной женщины? Или же женское подчинение существует ещё до брака и свойственно всем женщинам как группе в целом, а в браке оно лишь проявляется в полной мере?
Скорее всего – второе.