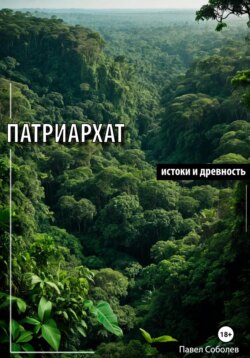Читать книгу Патриархат: истоки и древность - Павел Соболев - Страница 11
ЧАСТЬ 1: Факты
3. БРАК – СИМПТОМ МУЖСКОГО ГОСПОДСТВА
Насилие в браке
ОглавлениеК концу XIX века так сложилось, что культура австралийских аборигенов была изучена куда лучше, чем культуры других собирателей, и этнографам было отлично известно, что мир австралийцев – это мир сурового патриархата. Мужья жёстко доминировали над жёнами, культурой было закреплено право мужа избивать жену за любую провинность, а за некоторые даже убить. Женщина была исключена из религиозной сферы, за все важные ритуалы отвечали мужчины, все мифы и предания также хранили они. Патриархальная культура австралийцев недвусмысленно намекала, что о равенстве полов в древности думать совсем не обязательно. Если большинство западных учёных отнеслись к австралийскому патриархату как к факту, Энгельс обошёлся с ним более творчески. Угнетение женщин у охотников-собирателей, не знающих частной собственности, было фундаментальным противоречием гипотезам марксизма, а потому в первом издании «Происхождения семьи, частной собственности и государства» (1884) Энгельс пытался свести упоминания об австралийцах к минимуму: он прямо предложил просто игнорировать пример австралийцев, потому что «их организация носит столь единичный характер, что нам незачем принимать это во внимание». Но уже в четвёртом издании книги (1891) Энгельс, вопреки собственному запрету, вынужденно обратился к австралийским аборигенам, но совсем не для того, чтобы упомянуть об их патриархате, а с целью доказательства группового брака (что ему всё равно не удалось). Об угнетении женщин, противоречащем гипотезе, он решил умолчать. Но культура австралийцев оказалась проблемой только для идеологически ангажированных авторов – объективные учёные продолжали её изучение, и за 150 лет был накоплен впечатляющий массив данных о патриархате Зелёного континента. Под идеологическим прессингом советская наука пыталась выставить австралийцев некой аномалией среди собирателей, исключением из общего правила, но интересным было другое реальное исключение: австралийцы были народом, столкнувшимся с европейской цивилизацией позже всех, а значит, именно они, чисто гипотетически, и могли сохранять свои исконные традиции дольше других. Вот лишь некоторые наблюдения за жизнью австралийцев [5].
«По понятиям аборигенов, честь мужа заключалась в его способности держать жену в повиновении, а долг жены – подчиняться мужу» (с. 351). Одним из самых частых поводов для демонстрации мужской жестокости у австралийцев была измена жены: случаи побегов супруги с любовником, широко описаны в этнографии, и всё это несмотря на то, что наказание могло быть самым суровым. Выглядело оно примерно так: «муж безжалостно пронзает копьём свою жену, чтобы она больше не встречалась с другим мужчиной. Он почти что убил её»; «мужчина бьёт свою жену палкой или бумерангом, бьёт и бьёт её, а не просто ударит один раз»; «мужчина бьёт жену безжалостно, бьёт, пока она не ранена, вся в кровоподтёках из-за его битья»; «Он перестал её бить, бедняжка лежит вся израненная, не может даже сесть».
Мужчина мог наказать за измену не только свою жену, но и её любовника, так как вступление в сексуальную связь с женой какого-либо мужчины оказывалось покушением на его собственность. Но не только муж и не только любовника можно было наказывать за измену жены: «Женщину, которая ушла с другим мужчиной, будут бить оба – и её муж, и её сын. Муж может пронзить также и мать этой женщины, свою тёщу, за то, что её дочь так себя вела… В случаях менее тяжёлых проступков ограничивались ударом дубинки по голове или ударом копья в бедро, в понятиях аборигенов – почти символическим наказанием».
Иначе говоря, жена была собственностью мужа, полностью ему подконтрольная. И опять же, нет повода думать, будто ревность мужа была вызвана беспокойством о потенциальном отцовстве будущих детей, поскольку австралийские мужчины имели манеру делить своих жён с друзьями.
«Повсюду в Австралии были распространены обычаи одалживания женщин и обмена жёнами на время или навсегда. У мужчин-аборигенов было принято предоставлять своих жён другим мужчинам, чтобы укрепить или завязать с ними дружбу, проявить сочувствие или просто вежливость, возместить нанесённую ранее обиду, получить взамен какие-нибудь услуги или вещи. Например, в Новом Южном Уэльсе классификационные братья, которые были в ссоре и хотели помириться, обменивались на время жёнами. Хауит рассказывает об аборигене курнаи, который отдал на время одну из своих двух жён другу, отправлявшемуся в продолжительное путешествие, сказав при этом: «Бедный парень, он вдовец, а ему предстоит идти долгий путь, и он будет чувствовать себя одиноким».
«Когда женщина вступала в близкие отношения с посторонним мужчиной по распоряжению мужа или, по крайней мере, с его ведома, это считалось нормой; если же она встречалась с мужчиной по собственному желанию, и она, и её избранник подлежали наказанию. Свидетельства наблюдателей дают многочисленные примеры тому».
Распоряжение мужей своими жёнами у австралийцев было просто частью мужского господства: жена должна была исполнять волю мужа. Иными словами, подчинённое положение женщины у австралийцев давно и хорошо установленный факт. Можно допустить, как некоторые энтузиасты, что в линии австралийских аборигенов однажды просто «что-то пошло не так», возможно, они одичали и т.д., но факт, что для подчинённого положения женщины не требуется производящая экономика, остаётся. Как было уже сказано, аналогичное положение было и у тасманийцев – ближайших соседей австралийцев, которые некогда составляли с ними одно целое, но после повышения уровня океана Тасмания была изолирована от материка. Факт угнетения женщин у двух соседних народов с общим прошлым указывает, что угнетение это сложилось ещё до их разделения – то есть не позднее 14 тысяч лет назад. Но, по правде говоря, нет никаких оснований думать, что даже 60 тысяч лет назад, когда аборигены и прибыли в Австралию, было как-то иначе.
Самым распространённым элементом брака, демонстрирующим мужское господство, по всему миру была реакция на супружескую измену. Неверная жена порицалась куда сильнее неверного мужа: если мужа могли просто отчитать, то жена же подлежала не только осуждению, но и физическому наказанию – вплоть до убийства. Речь именно об охотниках-собирателях. Данные по 190 обществам собирателей со всех континентов показывают, что наказание жены за супружескую измену предусмотрено в 97% из них. При этом суровое наказание (нанесение серьёзных увечий вплоть до убийства) отмечено в 60,6% обществ, а умеренное (лишь избиение) – в 36,4% [105]. Наказания за мужскую измену не было или оно сводилось лишь к порицанию.
Эдвард Уильям Нельсон высвечивал проблемы супружеских отношений у эскимосов: «Когда муж обнаруживает, что его жена неверна, он может избить её, но он редко мстит соответствующему мужчине… Один старик рассказал мне, что в древние времена, когда муж и любовник ссорились из-за женщины, их обезоруживали соседи, а затем давали им решить проблему посредством борьбы, и победитель забирал женщину» [190, p. 293]. Здесь, как и у австралийцев, отчётливо видно право мужа не только контролировать женскую сексуальность, но и в целом распоряжаться женщиной – включая возможность отдать её другому. Причём контроль женской сексуальности в данном случае опять не укладывается в биологические гипотезы о происхождении брака, согласно которым муж стремится ограждать жену от других мужчин, чтобы быть уверенным, что растит своё потомство, так как у эскимосов существовал такой известный феномен, как «товарищество по жене»: желающие закрепить дружбу открывали доступ к своим жёнам. Когда один придёт в гости, то имеет право пользоваться ложем друга и его женой. Так что культурное право мужа избить неверную жену не связано с борьбой за собственный генофонд, а скорее являлось именно демонстрацией мужского господства. Кроме этого о мужском господстве говорит и тот факт, что муж может положить в постель жены любого, с кем хочет закрепить дружбу, – разрешения у жены спрашивать не надо.
Сходные практики существовали и у скотоводов масаи: мужчины, вместе прошедшие обряд инициации, имеют право прибегать к сексуальным услугам жён друг друга. При этом, аналогично с австралийцами и эскимосами, муж имел право наказать жену за самовольную сексуальную связь с мужчинами из других возрастных групп, а самого же любовника дозволялось убить. Подобное явление описано и бушменов !кунг под названием /kamheri, которое означает особый тип мужской близости, когда они позволяют друг другу вступать в сексуальную связь со своими жёнами, но при этом, в отличие от эскимосов и австралийцев, важно было согласие жён на такой обмен. «Если ты хочешь переспать с чьей-то женой, ты уговариваешь его переспать с твоей, и тогда никто из вас не гонится за другим с отравленными стрелами», пояснял Лорне Маршалл бушмен плюсы такой практики [184]. Но если бы жена самовольно вступила в связь с другим мужчиной, её ждало избиение, а любовника – смерть. Как видно, при разных типах хозяйствования, брачные практики вполне одинаковы.
В 1907 году, не вдаваясь в подробности, Зигфрид Пассарге заметил, что среди бушменов «прелюбодеяние очень часто приводит к убийству» [193, p. 106]. Исаак Шапера описывал другие наблюдения начала века за брачными нравами разных групп бушменов: у нарон «мужчина, уличивший свою жену в плохом поведении, пытается убить её любовника и избивает её», у ауен «прелюбодея, если возможно, убивают, а жену избивают более или менее жестоко, в зависимости от нрава мужа; её, очевидно, никогда не убивали» [206, p. 108]. Вместе с тем Шапера сетовал, что никто из путешественников не сообщал о наказании мужей за их измены, но это, как понятно, симптоматично. При этом Ричард Ли всё же приводил трагический случай из 1920-х, где жена-изменница не отделалась простыми побоями: «В гневе из-за её измены мужчина пронзает жену отравленной стрелой и убивает её» [178, p. 128].
Картина с сексуальной ревностью (которая так называется только по недоразумению, ведь речь идёт скорее просто о гневе за неповиновение мужскому контролю) для людей универсальна. Если углубиться в семейное насилие бушменов, то до 23% убийств среди них связаны с сексуальной ревностью [177]. То есть, как и во всём мире, мужья-бушмены убивают своих жён или их любовников. «Домашнее насилие распространено среди семей бушменов на юге Африки. Согласно сообщениям женщин, бойфренды и мужья били их, наносили ножевые ранения или ожоги. Часто мужчины были пьяны, но также случалось, что они били женщин за то, что те не выполняли приказы делать или не делать что-то», указано в докладе намибийского «Центра правовой помощи» [142, p. 57]. Да и если бы мужчины и женщины бушменов действительно были равноправны, а в их семьях царила гармония, то пришлось бы тогда взрослой бушменке успокаивать девочку-подростка, боявшуюся предстоящей ей свадьбы, поясняя: «Мужчина тебя не убьёт; он женится на тебе и станет для тебя как отец или как старший брат»? Аналогичный эпизод приводил и Ричард Ли, когда мама утешала плачущую 16-летнюю девочку, обещанную в жёны: «Это человек, которому мы тебя отдали, он не чужой, он наш человек и хороший, он тебя не обидит» [178, p. 89].
Кто-то утверждает, что семейное насилие у бушменов возникло сравнительно недавно из-за усиливающегося воздействия цивилизации и всё приближающихся городов, но вот если верить самим бушменкам уже преклонного возраста, «в старые времена, то есть в молодости, когда они жили в центральной части Калахари, сексуальная ревность играла доминирующую роль, как и "недопонимание" между мужьями и жёнами… Драку всегда начинали мужчины». У бушменов также оказались распространены изнасилования, включая и групповые, указано в докладе «Центра» [142, p. 61].
У африканских хадза, считающихся эгалитарными, картина сходна с бушменами: «Почти все убийства хадза другими хадза связаны с мужской ревностью. Мужчина может обнаружить, что у его жены был роман, и в этом случае он может убить другого мужчину и избить свою жену, или убить их обоих. Однако чаще всего это происходит, когда двое мужчин соперничают за одну и ту же одинокую женщину» [182, p. 175].
Точно так же и у аборигенов Андаманских островов, «измена жены может грозить смертью не только ей, но и её возлюбленному» [72, с. 154] – и это притом, что обычно андаманцев принято описывать как народ с выраженным равенством полов. Как и везде, если за измену жены возможна смерть, за измену мужа не полагалось ничего, кроме осуждения. Такое вот равенство полов. Но если прелюбодеяние рассматривалось андаманцами «как форма воровства» (с. 146), то можно заключить, что жена рассматривалась как форма собственности. Аналогичную картину описывал Коль-Ларсен для хадза: «единственным наказуемым проступком является воровство», писал исследователь и добавлял, что «убийство прелюбодея ядовитой стрелой» преступлением не считалось [57, с. 18]. На вопрос, что будет, если застанет с женой другого мужчину, хадза отвечал: «Только стрелы» – и жестом показывал выстрел из лука [118, p. 285].
Не удивительно, что и у эгалитарных пигмеев мбути ситуация такая же: «прелюбодеяние рассматривается как моральный проступок; если оно совершается с замужней женщиной, то является преступлением… Оскорблённый муж может наказать свою жену и напасть на соперника… Если он застанет жену на месте преступления, он имеет право убить её любовника» [225, p. 182].
Из приведённых примеров видно, что и у тех народов, кому молва успела приписать равенство полов, за измену наказывают либо жену, либо любовника, покусившегося на собственность мужа, – мужская же измена всегда остаётся безнаказанной. Кстати, и у ирокезов, так любимых Энгельсом за беспрецедентно высокий статус женщины, Морган описывал то же самое: «прелюбодеяние наказывалось поркой; но наказание налагалось только на женщину, которая считалась единственной виновной… Индеец считал женщину низшей, зависимой и слугой мужчины, и из-за воспитания и привычки она сама действительно считала себя таковой» [133, p. 64].
Венесуэльские собиратели хиви имели очень высокий уровень внутригруппового убийств, но всё же большинство жертв приходилось на месть ревнивых мужей, которые убивали как своих жён, так и их любовников [165]. Если рассматривать других южноамериканских индейцев (яномамо), то литература просто пестрит примерами их меж- и внутригруппового насилия, где частой жертвой оказывалась именно женщина. В 1960-е антрополог Наполеон Шаньон опубликовал о яномамо книгу, в которой большой акцент делал на их агрессивности и любви воевать. Десятилетиями позже другие антропологи обвинили Шаньона в некорректных выводах и даже в том, что якобы это он сам ссорил деревни яномамо, порождая их воинственность. Авторы просто не знали, что ещё в 1930-е яномамо похитили бразильскую девочку Хелену Валеро, которая 20 лет провела в их плену, после чего смогла сбежать и поведать историю всему миру. И история эта один в один совпадает с более поздними историями Шаньона. Яномамо нападали друг на друга чисто ради забавы, бравады и утверждения могущества одной группы над другой. Мужчины убивали друг друга, насиловали и убивали женщин, зверски уничтожали даже маленьких детей. История Хелены Валеро изобилует такими подробностями. Мужчины делили пленниц сразу на месте и вели к себе, чтобы представить прежним жёнам в качестве «младших» жён. На месте они их жестоко избивали. Один из эпизодов Хелена Валеро описала так: «Один из караветари сказал жене: "Эта женщина пойдёт со мной на плантацию – поможет мне собирать бананы. А ты оставайся дома с малышом". Жена его была очень ревнивой и хорошо знала, что собирается делать её муж с пленницей на плантации. Дождалась, когда они ушли, и тогда порезала весь гамак пленницы и побросала клочья в костёр… А когда пленница вернулась с плантации нагруженная бананами, ревнивая жена схватила палку и стала её бить, приговаривая: "Это тебе на память". Муж спокойно смотрел, как жена бьёт пленницу. Но потом жена так сильно ударила несчастную палкой по голове, что брызнула кровь. Тогда он взял толстую палку и протянул её пленнице, схватил жену за руки и сказал: "А теперь ты ударь мою жену по голове. Ну, бей". Пленница плакала от страха, но ударить не решалась. "Бей же, бей!" – подбодрял он её. Но пленница стояла и не двигалась. А жена кричала: "Бей, бей подлая! Потом я с тобой рассчитаюсь. Так ударю, что живой не будешь". Её муж уговаривал пленницу: "Бей, не бойся! Посмотрим, хватит ли потом у моей жены смелости убить тебя". Пленница тряслась от страха, по лицу у неё текла кровь, но ударить свою соперницу она не отважилась. Тут муж рассердился: "Значит, не хочешь бить? Тогда я тебя сам изобью". И тоже стал бить пленницу палкой» [22, с. 28].
Элси Беглер [113] подсчитала случаи физического насилия среди пигмеев мбути, описанные Колином Тёрнбуллом. Из них она особо выделила случаи, когда в выяснение отношений между мужчиной и женщиной не вмешались другие члены группы – таких набралось всего 6. В одном случае мужчина ударил женщину, и та дала сдачи; в другом случае женщина ударила мужчину, и тот не дал сдачи; и целых четыре случая, когда мужчина ударил женщину, а она не дала сдачи, и никто не вмешался. Как правило, такое происходило между мужем и женой или между братом и сестрой. При этом отдельно интересен случай, когда женщина ударила мужчину и тот не ответил: это сделала замужняя женщина по отношению к неженатому 19-летнему юноше, что говорит о неравных статусах. Но также интересна и причина конфликта. Юноша по имени Пейпей набросился на товарища за то, что тот указал ему, что делать; при этом Пейпей заявил, что он не женщина, чтобы ему приказывали. Вот тогда и вмешалась женщина, заодно подчеркнув, что женщинам не приказывают, а только детям. Откуда в голове юноши – представителя эгалитарного народа – мысль, что женщинам можно приказывать, представляет отдельную загадку, хотя и несложную.