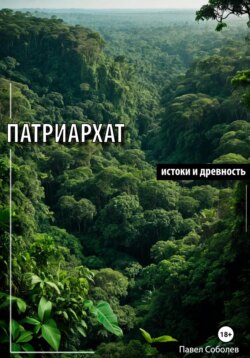Читать книгу Патриархат: истоки и древность - Павел Соболев - Страница 8
ЧАСТЬ 1: Факты
2. ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ У СОБИРАТЕЛЕЙ
Эксплуатация женщин
ОглавлениеДолгое время была популярна мысль, что эксплуатация женского труда развивается со становлением земледелия. Об этом было написано много работ в конце XIX века и ещё больше – за весь XX. Этнография показывает, что всё это в корне неверно. Всегда и всюду женский труд отнимал несравненно больше времени, чем мужской, и вместе с тем был более изнуряющим. При этом в интервью женщины разных народов – собирателей или примитивных садоводов – о мужских занятиях нередко высказывались со скепсисом и усмешкой.
Зная о мужском господстве в обществах большинства южноамериканских индейцев, учёные отмечали: «Не приходится удивляться и тому, что на долю женщин в первобытных индейских обществах, как правило, выпадает значительно больше тяжёлой и неприятной работы, чем на долю мужчин. В частности, при переселениях и походах мужчина обычно несёт лишь собственное оружие, тогда как его жена – весь остальной скарб весом в несколько десятков килограммов» [13, с. 128]. Эти наблюдения не единичны, а характерны для всех народов всех континентов – причём снова вне зависимости от типа экономики: присваивающей или производящей.
Возможно, слегка неожиданной характеристикой женского труда во многих культурах окажется таскание тяжестей. Стереотипно считается, будто именно мужчины занимаются наиболее тяжёлой работой, но, вероятно, это лишь легенда индустриально развитой цивилизации. Изучая быт папуасов в XIX веке, Миклухо-Маклай писал: «Ежедневно, жена приносит с поля плоды и собирает дрова на ночь для огня; она же таскает воду с морского берега или из ручья. Часто вечером можно видеть женщин, возвращающихся с поля тяжело нагруженными. На спине у них висят два мешка, прикрепленные к верёвке, обвивающей лоб: нижний – с плодами, верхний – с ребенком. На голове, сильно нагнутой вперед, благодаря тяжести мешков, они несут ещё большие вязанки сухих дров, в правой руке часто держат пучок сахарного тростника, а на левой висит ещё один маленький ребенок. Такой труд, при жаре и при узких тропинках, должен очень утомлять: свежесть и здоровье молодой женщины уносятся поэтому очень скоро» [73, с. 443].
«Картина, знакомая многим, кто бывал в Африке: по обочине налегке шагает африканец, а за ним – с тяжелой поклажей на голове его жена» [7]. Женщины многих африканских народов таскают воду и собирают древесину для костра, и за этим им приходится преодолевать по много километров с тяжёлым грузом, в то время как мужчины ведут более праздный образ жизни – особенно после женитьбы. Культурный же идеал мужчин этих народов состоит в планировании и управлении, поэтому они позволяют себе проводить время в играх и танцах. Аналогичная картина и у пигмеев, где женщины всегда нагружены чем-то: детьми или вязанками фруктов. Как отмечали этнографы о пигмеях эфе, «ассоциация переноски ноши с женской работой настолько сильна, что, когда мужчины убивают очень крупное животное, они проходят значительные расстояния до лагеря, чтобы позвать женщин для переноски мяса, а не несут его сами» [195, p. 356]. Доротея Блик, описывая трудовые будни женщин бушменов нарон, откровенно поражалась: «Удивительно, какой груз они могут нести» [117, p. 8]. Мужчины этим никогда не занимались.
Дальше можно привести большой фрагмент из работы австраловеда О. Ю. Артёмовой «Колено Исава» (с. 353-382).
«Многие наблюдатели сообщали, что традиционные хозяйственные обязанности и заботы женщин занимали гораздо больше времени и требовали большего труда, чем хозяйственные занятия мужчин… Абориген обычно старается переложить на своих жён всю работу, особенно если жён у него несколько, сам же охотится на кенгуру, валлаби и эму или бьёт копьём рыбу только тогда, когда у него бывает настроение… Мужчины постоянно заставляют ловить рыбу женщин, а сами спят или просто отдыхают в это время на стоянках… Когда женщины возвращаются с пустыми руками, мужья сурово наказывают их.
В Центральной Австралии мужчины много времени проводили в лагере, иногда вообще ничего не делая, женщины же целый день были заняты поисками пищи… Экономика общины основана в первую очередь на женском труде. Если в общине много женщин, то забот у мужчин немного. Если в общине мало женщин, мужчины должны трудиться от темна до темна… Подавляющую часть пищи добывали женщины, причём не только растительную, но и мясную: мелких сумчатых, ящериц, змей и т.п. Мужчины охотились редко, кушанья из добычи, принесённой ими (крупные виды кенгуру, морские животные, крупные птицы), считались деликатесами.
Даже в засушливых районах страны, где количество растительной пищи ограничено, доля продуктов женского труда в пищевом рационе аборигенов составляла 60%, а в плодородных тропических районах севера женщины добывали около 90% всей пищи…
Во время обычных переходов аборигенов с одной стоянки на другую женщины несли все пожитки, а также маленьких детей, мужчины же шли налегке. Некоторые авторы связывали этот обычай с тем, что у мужчины должны быть свободными руки, чтобы он мог в любую минуту броситься преследовать пробегающее мимо животное. Такое объяснение не очень убедительно; возможно, оно позаимствовано у мужчин-аборигенов, которые пытались оправдать свои порядки в глазах осуждавших их европейцев. Мужчины во время перекочёвок иногда заставляли женщин нести в придачу к другим вещам и свои копья. В Западной пустыне женщины перетаскивали тяжёлые камни для зернотёрок. Базедов писал, что жёны у аборигенов рассматривались как "средство транспортировки" всего имущества».
Один из австралийцев, жена которого ушла к другому мужчине, сказал ему: «Зачем ты увёл у меня жену? Она собирает много пищи, и так как у меня нет других жён, я хочу получить её назад».
«Однако, несмотря на то, что женщины добывали большую часть пищи, несли подавляющую часть забот, связанных с уходом за детьми, и выполняли множество других обязанностей, их значение в жизни общества оценивалось много ниже, чем значение мужчин. Похороны женщины, как правило, сопровождались более скромной и менее сложной обрядностью, чем похороны мужчины. Отмщение за убийство женщины, действительное или предполагаемое, не считалось делом столь важным и необходимым, как месть за смерть взрослого инициированного мужчины. Обида или физические увечья, нанесенные женщине, гораздо реже бывали отомщены, чем обида или увечья, полученные мужчиной».
Идентичная картина была характерна и для тасманийцев, и для новогвинейских папуасов, о которых Джаред Даймонд писал: «впереди шёл муж, в руках которого не было ничего, кроме лука и стрел, а позади плелась жена, сгибаясь под тяжестью собранного хвороста, плодов и младенца. Мужские охотничьи вылазки, похоже, затевались в основном ради возможности провести время с друзьями: изрядную часть добычи съедали сами охотники прямо в лесу. Женщин продавали, покупали или бросали, не спрашивая их согласия» [42].
Некоторые антропологи предполагают, что у аборигенов Центральной Австралии многожёнство со временем исчезло с появлением там верблюдов, которых европейцы активно завозили в конце XIX века. Абориген, которого спросили, почему у него всего одна жена, ответил: «А зачем мне ещё жена? Вот этот, – он показал на принадлежащего ему верблюда, – снесёт больше, чем десять жён». Здесь видно, что не обязательно женщина, но и вьючный скот может спасать мужчину от непрестижных занятий.
О канадских атапасках XVIII века Моуэт Фарли писал в своей знаменитой «Следы на снегу» (1985), что они «женщин держат на расстоянии и ставят очень низко. Даже жёнам и дочерям вождя не положено приступать к еде, пока все мужчины, включая слуг, не закончат трапезу. Поэтому в голодное время женщинам нередко не достаётся ни крошки. Естественно, наверно, предположить, что они питаются тайком, но делать им это приходится с величайшими предосторожностями – разоблачение грозит сильными побоями». Фарли описывал, как один из индейцев скупал себе жён (у него их было семь). «Почти каждая была под стать хорошему гренадеру. Матонаби заметно гордился высоким ростом и силой своих жён и частенько говаривал, что редкая женщина способна тянуть более тяжёлую поклажу. И хотя они были мужеподобны, он предпочитал их товаркам более хрупкого телосложения». Далее Фарли сообщал, что в женщинах очень ценится среди прочего умение «переносить сто сорок фунтов [около 63 кг] на спине летом или вдвое больше тащить за собой по снегу зимой». Этнографы вообще утверждают, что в доколониальный период у индейцев американского севера сани таскали именно женщины, а создание же собачьей упряжки стало возможным, только когда европейцы завезли ружья, что позволило индейцам лучше охотиться, а значит, кормить и содержать достаточно собак [97, с. 144]. Как видно, не только верблюды, но и собаки освобождали женщин от тяжёлого труда.
Женщин андаманских аборигенов этнографы описывали очень выносливыми: «несмотря на малый рост при лесных переходах именно на их долю достаётся переноска наиболее тяжёлых грузов». При этом дальше следовало дежурное обоснование, будто руки мужчин должны быть свободны для оружия на случай нападения врагов или для броска в подвернувшегося зверя. Но при этом и в лагере удивительным образом все заботы снова лежали на женских плечах: «Она добывает дрова для очага и воду, готовит циновки и место для ночлега, варит еду. Кроме того, она должна уметь делать ещё множество вещей: брить мужа, наносить татуировку, приготовлять глину для украшения тела и другие красители, изготовлять несложные украшения из подручных средств и ещё многое другое. Как мы видим, забот у жены полно» [72, с. 152].
У аборигенов Огненной Земли яганов «женщина занимается многими делами, которые не оставляют ей даже мгновения, чтобы лениво положить руки на колени. Она шевелится весь день и часто ночью. Мужчина же, с другой стороны, имеет право на отдых в несколько часов подряд всякий раз, когда он истощает себя в чрезвычайных физических усилиях» [220]. И всё это притом, что женщина также участвует в добычи пропитания, включая и помощь в мужской охоте с гарпуном, когда она служит на лодке гребцом, – после этого женщина высаживает мужа на берегу, а сама должна отогнать лодку в другое место и добираться до берега вплавь. Антрополог Паола Табет писала: «Разница принципиальна со всех точек зрения, в том числе и с точки зрения досуга, посвящённого интеллектуальной деятельности, будь то танцы, ритуалы или инструменты. Действительно, навязывая и требуя у женщин больше работы, мужчины гарантируют себе больше свободного времени. Для женщин возможности отдыха самые ограниченные. Эта экспроприация женского времени является фундаментальным аспектом их эксплуатации» [220].
У хадза половое разделение труда происходит не только по линии «охота/собирательство», но и касается работ в лагере: как и у народов всего мира, женщины носят дрова и воду, строят хижины и занимаются детьми. Чем занимаются мужчины? Как отвечают женщины-хадза, мужчины «охотятся и отдыхают» [118, p. 420] – то есть мужчины «трудятся» только вне лагеря, тогда как женщины и вне лагеря, и внутри него. «Женщины целый день трудились под палящим солнцем, выкапывая клубни, затем возвращались в лагерь и до темноты разбивали семена баобаба, в то время как мужчины сидели в тени, разговаривали, курили и возились со своими стрелами… Лишь изредка мужчины, называвшие себя заядлыми охотниками, появлялись с мясом» (p. 282). Мужчины хадза придавали значительно большее значение тому, чтобы жена была трудолюбивой («хорошей добытчицей»), чем мужчины американских колледжей [182, p. 187]. Интересно, как об идентичной проблеме у бушменов сообщал Алан Барнард: «Учитывая, что охота – это в равной степени и спорт, и работа, женщины и старшие дети, как правило, работают больше мужчин» [107]. Здесь мы слегка забегаем вперёд, проводя параллели между охотой и спортом, то есть способом интересно скоротать время, но в дальнейших главах рассмотрим этот вопрос подробнее.
Антрополог Джэнис Стокард перечисляет бонусы, получаемые бушменом после женитьбы: «Как муж, он будет иметь жену, чтобы обеспечить себя многими вещами. Она построит ему дом вокруг центральной площади в лагере и будет поддерживать очаг, над которым она будет готовить еду из продуктов, которые собирает для мужа ежедневно» [218, p. 30]. Неудивительно поэтому, что «женихи, судя по всему, охотно берут на себя брачные обязательства, в то время как невесты обычно возражают, а иногда и яростно сопротивляются. Больше всего юная невеста возражает против замужества, потому что тогда от неё ожидают, даже от 10-летней девочки, вести себя как взрослая замужняя женщина и начинать работу жены, оставив в прошлом игры, которые она хотела бы продолжить. Ожидается, что она будет жить с незнакомцем и начнёт «ведение домашнего хозяйства» для своего мужа, собирая для него еду и готовя пищу у очага, который она должна хранить».
Что характерно, быт южноамериканских племён охотников-садоводов (то есть уже занимающихся производящим хозяйством на примитивном уровне) ничем не отличался от такового у чистых собирателей. Такие народы используют участок земли 4-6 лет подряд, после чего покидают его из-за истощения почвы или из-за трудноискоренимых сорняков. Основная часть работы мужской половины племени состоит в обработке нужных земель с помощью каменного топора и огня. Эта задача, выполняемая в конце сезона дождей, мобилизует мужчин на один или два месяца. Почти вся оставшаяся часть сельскохозяйственной работы – сажать, пропалывать, собирать урожай – в соответствии с половым разделением труда входит в обязанности женщин. «Из этого следует забавный вывод», отмечают антропологи. «Мужчины, то есть половина населения, работали примерно два месяца раз в четыре года! Что касается оставшегося времени, они его посвящали занятиям, которые воспринимались не как обязанность, а как удовольствие: охота, рыбалка, праздники и попойки; или, наконец, удовлетворение своей страстной тяги к войне» [55, с. 41].
Интервью тробрианских женщин – одного из народов Меланезии – показывают, что они были не очень высокого мнения о своих мужчинах. Женщины выполняли основные хозяйствующие функции группы, а про мужчин же говорили, что они просто сидят и сплетничают весь день, не делая никакой реальной работы, если не призывают сразиться с другими общинами. Если у тробрианцев женщин никто не описывал как в целом угнетаемых, то такого нельзя было сказать о других народах Меланезии. С. А. Токарев сделал краткий обзор по теме:
«В подавляющем большинстве меланезийских обществ женщина занимает весьма приниженное положение. Женщина обычно рассматривается здесь, как рабочее животное, она – бесправная раба своего мужа. Так, например, на полуострове Газели муж является, по выражению Паркинсона, "абсолютным господином" своей жены или жён. "Жена есть его собственность и должна для него работать". По словам Бургера, женщина – это рабочая сила, и приобретение этой рабочей силы, то есть покупка жены, – очень важное дело в хозяйстве туземца. Женщины едят после трапезы мужчин.
На острове Вао (Новые Гебриды) женщины являются рабами, исполняющими все работы; при этом их бьют, продают и покупают, как свиней. На соседней Малекуле женщины – несчастные забитые существа, терпящие ряд табуаций: например, они никогда не моются, так как вода для них – табу. За попытку побега от жёсткого обращения мужа женщину беспощадно наказывают, и, например, Джонсон описывает виденную им сцену расправы мужчин над одной такой беглянкой: её истязали раскалённым камнем, подвязанным под колено, и группа мужчин, в том числе её муж, стоя вокруг, долго наслаждалась криками жертвы. В результате такой экзекуции женщина остаётся хромой на всю жизнь. Джонсон видел несколько таких хромых, видимо, перенесших в своё время подобное же наказание. Такое угнетённое положение женщины может показаться удивительным, если иметь в виду, что в этих местах господствует материнский род» [91].
У части папуасов распространено свиноводство, но главное же, конечно, снова то, что свиньями должна заниматься именно женщина – это непрестижный для мужчины труд. Хотя, что характерно, в итоге свиньи по парадоксальной причине всё равно считаются собственностью мужчины (и чем у него их больше, тем выше его статус в общине). Такое положение вещей логично ведёт к тому, что многие мужчины стремятся приобрести как можно больше жён – ведь тогда они смогут разводить больше свиней. «Отсутствие женщины в хозяйстве вообще не позволяет заниматься свиноводством. У цембага отмечен случай, когда смерть жены заставила мужчину убить всех своих свиней, так как о них некому стало заботиться» [97, с. 154]. Поговорка новогвинейского народа вогео гласит «Мужчина играет на флейте, женщина выращивает детей», а другой соседний народ говорит ««Мужчина женится, чтобы получить пару рук». Папуасы киваи объясняют, почему мужчины стремятся накапливать жён: «Одна женщина идёт в сад, другая – за дровами, третья – ловить рыбу, четвёртая – готовить, а мужчина зовёт много людей, чтобы поесть» [133, p. 135]. Кристоф Дарманже сделал прекрасную подборку этнографических фактов, демонстрирующих эксплуатацию женского труда мужчинами. Конечно, папуасами она не ограничивалась. У салишей реки Томпсон (чистых охотников-собирателей), несмотря на общее уважение к женщинам, от них ожидалось, что «они будут "усердны в своей работе, верны и послушны своим мужьям", в то время как обязанностью мужчины было "защищать свою жену и бить её, если она ленива, или увещевать её» (там же, p. 216).
Все эти примеры показывают, что положение женщины одинаково незавидно что в присваивающей экономике, что в производящей. Всегда и везде женщина выполняет основные бытовые работы, необходимые для обычного течения жизни, а мужчины, как правило, только охотятся, но охота, как будет показано дальше, вопреки стереотипам, не является основным способом добычи пропитания: основную еду приносит именно женское собирательство. Ещё в 1928-м знаменитый российский этнограф В. Г. Богораз на основании обширных данных по охотникам-собирателям конца XIX-го и начала XX веков заключил: «На собирательной стадии женщина является вьючным животным и служит для переноски всякого рода тяжестей… Женщина, как вьючное животное, проявляет большую выносливость» [23, с. 75]. При этом учёный выделил все типы женских занятий у собирателей.
1. Уход за детьми. «Забота о которых лежит всецело на её плечах, даже в буквальном смысле, ибо молодая мать в вечных скитаниях носит грудного младенца на бедре или на спине, также как самка обезьяны, и почти никогда не спускает его на землю».
2. Собирательство растительной пищи и мелких животных. «Из которых и мужчина получает свою долю».
3. Поддержание огня. «Женщина носит дрова решительно у всех первобытных племён, большей частью на собственной спине, на севере зимою возит дрова на салазках. Так у чукоч собирание дров является делом женщин. Они выдирают по тундре и иным ложбинкам жёсткие зелёные кустики, собирают деревянистые корни и стаскивают их в кучу. Дело это на тундре довольно нелёгкое».
4. Переноска тяжестей. «Наконец, на собирательной стадии женщина является вьючным животным и служит для переноски всякого рода тяжестей».
При этом Богораз не занимался игрой в формулировки, как вынуждены были делать более поздние советские авторы, и заключал прямо: «Всё это, разумеется, ещё не свидетельствует о низших способностях женщин, а только об её угнетенном и зависимом положении». И это речь именно об охотниках-собирателях рубежа XIX-XX веков. Учёный специально указал, о каких народах говорит: «в Америке ботокуды, огнеземельцы, сирионо, в Африке бушмены и акка, в Азии цейлонские ведды, андаманцы, малаккские альфуры, все вообще австралийцы, вымершие тасманийцы и некоторые другие».
Перечень женских работ впечатляет. Но чем же занимались мужчины? В основном только охотой – но не каждый день, и в целом добывали дичи не очень много. Дэниел Эверетт так описывал будни южноамериканских индейцев пираха: «Часто я видел, как мужчины целыми днями ничего не делали, а только сидели вокруг тлеющего костра, болтали, смеялись, испускали газы и таскали из огня печёный сладкий картофель. Иногда к этой программе добавлялся ещё один номер: они дергали друг друга за гениталии и ржали, как будто первыми на всей земле придумали этот изумительный трюк» [100, с. 85].
Ясно видно, что эксплуатация женского труда никак не связана с переходом к производящему хозяйству – там эта тенденция лишь продолжилась. Гораздо более поздний быт монгольских кочевников был устроен совершенно аналогичным образом. Итальянский монах-путешественник XIII века писал о монголах: «Мужчины ничего вовсе не делают, за исключением стрел, а также имеют отчасти попечение о стадах, но они охотятся и упражняются в стрельбе. Женщины их всё делают полушубки, платья, башмаки, сапоги и все изделия из кожи, также они правят повозками и чинят их, вьючат верблюдов и во всех своих делах очень проворны и скоры» (цит. по [60, с. 395]). Такие же описания оставили путешественники по Дагестану второй половины XIX века, называя местных женщин «несчастными женщинами кавказских гор, работающими, как вьючный скот, и не только под старость, но и в 30 лет уже не могущими распрямить свой стан! В облегчение полевых работ дидойских женщин нигде не видно было и ишака, этого единственного существа, участь которого в горах может сравниться с участью женщин. Но нет, ишаки в Дагестане всё же в большей холе, чем женщины!» [34, с. 321]. В XVII веке римский посол в Москве писал о России: «женщины трудятся на полях гораздо более, чем мужчины» [81, с. 35]. При этом дома картина, похоже, была ещё ярче, и женщина проводила за домашним трудом аж на 600% больше времени, чем мужчина [1, с. 97].
80-летняя крестьянка рассказывала, каким на протяжении жизни был её с мужем рабочий день: «Бывало, я со своим мужем, так и каждая женщина, вот по сих пор ходим в болоте, ведь болота были. И клали копну на таких рассохах, палочки ставили и [на] носилки клали и так носили. И вдвоём копненки [носили], я сзади, он спереди, ведь он – мужчина. Он кладёт, поставит на рассохи, он укладывает этот стожок. Я, женщина, лезу на тот на стожок, ведь там надо поправлять, надо укладывать. Придём домой, устанем. У меня и свинья кричит, и варить надо, и корову доить надо, и всё надо делать, и дети есть, и дети есть хотят, и он хочет есть. Он придёт, сядет, и всё. И коротко-ясно. И одну работу делаем. Но у него есть время, а женщины всё работают» [48, с. 222]. То есть муж и жена вне дома выполняли одинаковую работу, но придя домой, мужу позволялось расслабиться, тогда как женщине ещё предстояло много чего сделать. Классическая картина с мужиком на печи не столь и сказочная. Интересно, что, похоже, в народе довольно ясно осознавали такое положение вещей, что было зафиксировано в некоторых сказаниях. В одном из них объяснялось, что женщина вынуждена работать больше мужчины, потому что однажды не подсказала дорогу заблудившемуся Христу, а отослала его спросить об этом мужа, пахавшего неподалёку. За то Христос сказал женщине: «У тебя никогда не будет времени. Ты будешь одну работу делать, а десять тебя будут ждать». Муж же дорогу разъяснил, и Христос ему обещал: «У тебя всегда время будет» [48, с. 222].
Сходная картина наблюдается и в жизни современных жителей мегаполисов, когда женщина после работы вынуждена ещё делать многое по дому, что в социологии получило название женской «второй смены». Такое положение женщины в точности совпадает с её положением у всех охотников-собирателей, а значит, оно уходит корнями в глубочайшую древность.