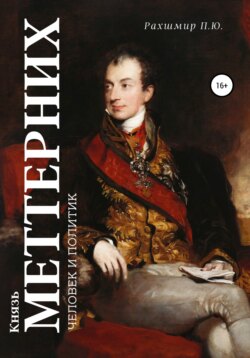Читать книгу Князь Меттерних: человек и политик - Павел Юхимович Рахшмир - Страница 10
Глава II. Парижские университеты
II
ОглавлениеНа самом же деле он с головой погрузился в светскую жизнь Парижа. Двор Наполеона открывал массу возможностей для светских удовольствий, которые так ценил Меттерних. В отличие от чопорного, проникнутого кастовым духом габсбургского двора с его всесильными жрицами из престарелых княгинь, в Сен Клу и Тюильри собирались главным образом люди его поколения. Большинство из них совсем недавно обрели титулы и богатство, сражаясь под знаменами генерала Бонапарта, а затем императора Наполеона. Наполеоновскому двору придавало особый шик сочетание энергии и жизнелюбия нуворишей и парвеню с изысканным шармом аристократов старого режима, которых император стал охотно принимать к себе на службу. «Наполеон, – писал известный французский историк А. Сорель, – поступает в этом случае с этими роялистами, как поступил Генрих IV после своей мессы с бывшими членами Лиги и иезуитами»[105]. Может быть, особое очарование двору империи придавало его стремление как можно полнее прожить именно сегодняшний день, так как прочной уверенности насчет завтрашнего не было. Весь его блеск, все его великолепие зависели от одного человека, склонного постоянно искушать судьбу.
Не удивительно, что блистательный салонный лев, элегантный, красивый, аристократичный, стал звездой парижского общества. В описании своего апологета Г. фон Србика Меттерних времен парижского посольства предстает едва ли не трагической фигурой, человеком, поглощенным одной лишь величественной целью – свергнуть ненавистного деспота: «В постоянном общении с поработителем Европы, находясь под неусыпным надзором со стороны императора, его придворных и его полиции, он учился трудному искусству полного самообладания, сокрытия мыслей под холодной сдержанностью или под угодливо улыбающимся видом, с «одним смеющимся, а другим плачущим глазом», с любезной болтовней и со смертельной враждой на сердце»[106]. Бесспорно, отмеченный Србиком мотив и звучал в сознании австрийского посла, влиял на его поступки и поведение, но не следует забывать, что Меттерних был еще сравнительно молодым человеком, подверженным если не страстям, то увлечениям, склонным эпикурейски предаваться радостям жизни.
Хотя дипломат в конечном счете брал в нем верх над эпикурейцем, но было бы ошибкой видеть в нем лишь лазутчика в стане врага. Да и отношение его к Наполеону никак не укладывается в черно-белую схему. Автор самого обстоятельного исследования о Меттернихе, Г. фон Србик опять недооценивает того обстоятельства, что его герой менялся во времени, что молодой Меттерних при всей своей осторожности и осмотрительности все же не утратил эмоциональности, импульсивности. Чтобы увидеть разницу между ранним и зрелым Меттернихом, достаточно взглянуть на два его портрета, созданные Жераром и Лоуренсом. На первом (1806 г.) – романтического вида молодой человек с легкой блуждающей улыбкой, слегка рассеянным взглядом; на другом (1819 г.) – почтенный государственный муж с тонкой, чуть насмешливой улыбкой, отражающей чувство собственного превосходства, непоколебимой уверенности в себе, своей исторической миссии. С портретом Жерара совпадает «зарисовка» Нессельроде, сделанная им с натуры весной 1806 г.: «Я еще не убежден, что Меттерних соответствует уровню того места, которое ему прочат, хотя он достаточно умен, духовности в нем даже больше, чем у трех четвертей венских превосходительств, он более чем любезен, когда того хочет, внешне красив, почти всегда влюблен, очень часто рассеян, что столь же опасно в дипломатии, как и в любви»[107].
И в парижские салоны Клеменса приводило отнюдь не только стремление получить ценную информацию для своей дипломатической игры. Любовные интересы влекли его не меньше. Как трудно провести грань между политикой и светской суетой, так же сложно провести грань между дипломатией и любовью в жизни молодого Меттерниха. Он великолепно вписывался в молодой двор наполеоновской империи. Прекрасные дамы сразу же проявили к нему большой интерес, началось соперничество из-за «красавца Клемана». Сам же он (тоже интересный штрих к портрету) попытался разыскать свою первую любовь Констанс де Камон. Потом произойдет их встреча, но связь времен уже не восстановить.
Наибольший резонанс и немаловажные политические последствия были вызваны двумя его парижскими романами, в которых, кстати, тоже нашла отражение двойственность его натуры. Героиней одного из них являлась сестра Наполеона, жена маршала Иоахима Мюрата (Великий герцог Бергский, затем король Неаполитанский) Каролина, а другого – жена друга юности Наполеона, генерала Жюно (герцог д’Абрантес), Лаура. Две женщины, две корсиканки смертельно ненавидели друг друга. Для этого имелось множество причин. Каролина, в частности, находилась в любовной связи с Жюно, тогда занимавшим пост военного губернатора Парижа.
Сестра Наполеона претендовала на роль первой дамы империи, политические амбиции у нее преобладали над женскими. Много сходного у нее в характере с Меттернихом, и оба стоили друг друга. Не чуждая страстей, Каролина тем не менее мыслила вполне трезво, беспокоилась о будущем. Она понимала, что благополучие семейства Бонапартов зиждется лишь на силе и могуществе Наполеона, а он не вечен. К тому же он не может остановиться. Война следует за войной. Чем все это кончится, неизвестно, а ей нужны определенные гарантии. Это приводит ее к контактам с Талейраном и Фуше, которые тоже обеспокоены ненасытностью императора. Вместе они представляют собой что-то вроде партии умеренных или даже «пацифистов». Талейран нарисовал такой портрет своей сообщницы: «Голова Кромвеля на плечах красивой женщины»[108].
После молниеносного разгрома Пруссии при Иене и Ауэрштедте (14 октября 1806 г.) военные действия приняли затяжной характер. Ожесточенное сражение между французскими и русскими войсками при Прейсиш-Эйлау (8 февраля 1807 г.) не выявило преимущества ни одной из сторон. Распространялись всякого рода слухи. Не исключалась возможность гибели Наполеона. Энергичная Каролина в таком случае рассчитывала вместе с мужем претендовать на наследие брата. Полагают, что именно такими соображениями объяснялась ее связь с генералом Жюно: ведь в его руках были ключи от Парижа. Лаура Жюно, герцогиня д’Абрантес, в своих знаменитых мемуарах писала о «деятельном честолюбии» своей соперницы Каролины Мюрат. Конечно, отмечает герцогиня, она не могла прямо просить парижского губернатора, чтобы он объявил императором ее мужа. Не могла она и спросить прямо у Жюно: «Сделаешь ли ты государем моего мужа, если император падет в битве? Но она говорила ему многое, в чем ясен был смысл, что когда настанет минута, он ни в чем не сможет отказать ей. Замысел самый коварный, какой только я знаю!»[109].
В эту сложную интригу был легко втянут и австрийский посол. «Красавец Клеман» представлял один из старейших домов Европы, пусть одряхлевший, побитый, но укорененный в истории. Признание Австрии в «день X» значило бы очень много с точки зрения легитимации при переменах на французском троне. Для Меттерниха Каролина тоже была не просто красивой женщиной. И не только из тщеславия привлекала его сестра императора, хотя этот мотив не следует исключать. Его самолюбию льстил тот факт, что он мог носить браслет из ее волос. Каролина, женщина политическая, служила, естественно, источником ценнейшей информации. Можно сказать, что их политический интерес друг к другу был взаимным. Наполеон сквозь пальцы смотрел на эту связь сестры. Ему приписывают слова, сказанные Каролине по данному поводу: «Забавляйтесь с этим вертопрахом, он нам еще пригодится». Вскоре, однако, Лаура Жюно берет реванш у Каролины. Клеменс легко поддался ее очарованию. Если в первой связи было больше политики, то во второй – чувства. Агентам Фуше нелегко было поспевать за неутомимым австрийским послом, порхавшим между возлюбленными и салонами. Из наиболее часто посещаемых им салонов стоит отметить салон мадам де Суза, бывшей графини Флао, бывшей любовницы Талейрана. Ее сын был молодым, делавшим эффектную карьеру офицером, любовником падчерицы Наполеона Гортензии Богарне. Через много лет он станет французским послом в Вене, а его мать сравнительно скоро – источником серьезных неприятностей для Клеменса.
Наконец в Париже появилась Лорель с детьми. Ей пришлось преодолеть очень сложный маршрут из Дрездена до Парижа через боевые порядки прусских и французских войск. Не без гордости за свою жену Клеменс говорил, что мадам Меттерних обнаружила незаурядные способности и вполне могла бы командовать войсками. Меттернихи обосновались в доме по соседству с дворцом, служившим резиденцией австрийскому послу времен Кауница графу Мерси. Меттерних хотел бы устраивать эффектные приемы, но Лорель и в Париже не могла играть роль хозяйки салона. У нее не было для этого ни внешних данных, ни духовных потребностей, ни тщеславия. Кроме того, у нее ухудшается состояние здоровья.
Зато Клеменс получил полную свободу, которую использовал достаточно широко, что не мешало ему, как и в Дрездене, и в Берлине, скрупулезно выполнять свои прямые служебные обязанности. Курьеры преодолевали путь между Веной и Парижем туда и обратно за 12 дней. Из Парижа они регулярно увозили в австрийскую столицу обстоятельные доклады с серьезной и весьма оперативной информацией. Иногда объем депеш, отправленных с одним курьером, достигал 200 исписанных с двух сторон листов. Работу свою он делал со вкусом, она стала для него внутренней потребностью, интеллектуальным удовольствием. «Ни дня без строчки», – эти слова как будто бы о нем.
Победа Наполеона над Пруссией побудила Меттерниха еще серьезнее отнестись к идее австро-французского союза. Только на этом пути казалось возможным сохранить целостность Габсбургской империи и блокировать угрозу франко-русского союза. Наполеон и Талейран не раз искушали Австрию перспективой союза. Делать это Талейрану было тем проще, что он искренне (если эти слова можно использовать по отношению к нему) желал франкоавстрийского сближения, видя в нем ключ к равновесию и покою в Европе. В беседе с австрийским генералом и дипломатом Винцентом вскоре после разгрома Пруссии Наполеон жаловался, что вынужденная война отвлекла его от создания с участием Австрии барьера против России. В начале марта 1807 г. в промежутке между Прейсиш-Эйлау и Фридландом Наполеон писал Талейрану: «Покоя в Европе не будет, пока Франция и Австрия или Франция и Россия не станут действовать совместно. Я неоднократно предлагал это Австрии, предложение остается в силе… Результатом из всего этого должна быть система либо между Францией и Австрией, либо между Францией и Россией»[110].
Характерно, что мысли Меттерниха развивались в этом же направлении. 8 февраля он отправил в Вену свои соображения о переориентации австрийской политики. Однако от Штадиона ответа так и не последовало. Тем самым он давал понять послу, что тот берет на себя слишком много, вмешиваясь в формирование австрийской политики в целом. Но как только забрезжила перспектива посредничества Австрии между Францией и Россией, Штадион затребовал Меттерниха в Вену. Он понимал, что вряд ли кто сможет лучше Меттерниха выполнить такого рода задачу, тем более что и в Петербурге, и в Париже он был persona grata. Но отъезд посла в столь напряженное время мог быть истолкован и как недружественный акт. Талейран не дал разрешения на отъезд. Раздраженный Наполеон тоже был против, усматривая в этом происки ненавистного ему Штадиона.
Большая дипломатическая игра развернулась после Тильзитского свидания (25 июня 1807 г.) Наполеона и Александра I. Даже Штадион забеспокоился по поводу возможности франко-русского союза. Через месяц после Тильзита Меттерних вновь в послании Штадиону дает анализ общеевропейской политической ситуации. Европа, отмечает он, находится в состоянии усталости и деморализации. Тильзит больше в пользу России, чем Франции, которая фактически жертвует державой (то есть Австрией), способной служить противовесом России. Пруссия опустилась до уровня державы третьего ранга. Австрия должна накапливать силы. «300 тысяч солдат позволят ей сыграть первую роль в Европе в момент всеобщей анархии, которая неизбежно наступит вслед за эпохой великих узурпаций»[111]. Здесь уже просвечивают контуры той стратегии, которой Меттерних будет придерживаться вплоть до 1815 г.
Прежде чем вести переговоры о возможном союзе с Францией, нужно было, наконец, подвести черту под войной, подписать конвенцию, где были бы урегулированы вопросы, оставшиеся открытыми по Пресбургскому миру. Во время первой официальной встречи с Меттернихом после Тильзита и последней в качестве министра иностранных дел Талейран 7 августа 1807 г. небрежно сказал о «маленькой конвенции», которую надо подписать, чтобы развязать руки. 9 августа Талейрана заменил бесцветный, но всецело преданный Наполеону Шампаньи. На фоне Талейрана он выглядел в глазах Меттерниха «жалким министром». Но хватка у него была весьма жесткая. Нессельроде приводит такое высказывание Талейрана: «Единственное различие между Шампаньи и мною в том, что если император прикажет ему отрезать кому-нибудь голову, он сделает это в течение часа, а я протяну месяц, прежде чем выполню приказ»[112]. Меттерних начал переговоры, еще не имея инструкций. Он изготовился к схватке, прикинул, по каким вопросам можно завязать борьбу, на какие территориальные уступки можно пойти. Но проект документа, который Клеменс получил из Фонтенбло, где расположился Наполеон, своей жесткостью превосходил самые мрачные предположения посла.
Меттерних не мог взять на себя ответственность за принятие этого документа и прервал переговоры, чтобы выиграть какое-то время и получить необходимые инструкции и полномочия. Практически ничего не дали арьергардные бои, которые он завязывал по отдельным пунктам конвенции. Добился он лишь того, что французская сторона согласилась вычеркнуть слово «все» в предложении «Все трудности, возникшие из Пресбургского договора, устранены» из преамбулы документа[113]. Предварительным условием ратификации конвенции Наполеон выдвинул признание его братьев королями Голландии, Неаполя и Вестфалии. Переговоры стоили Меттерниху многих сил, нервов, здоровья. Он жаловался Штадиону на крайнюю усталость. По возвращении из Фонтенбло он даже не мог писать в течение 20 часов, так как глаза утратили способность ясно видеть. Тот факт, что он столько времени не мог взяться за любимое дело, пожалуй, самое убедительное свидетельство его угнетенного состояния. Естественно, он пытался оправдаться за уступки тем, что «отсрочка могла бы только создать шансы для новых жертв без какой-либо надежды на лучшее»[114]. «Линия, проведенная на карте собственноручно императором, – признает Меттерних, – была барьером, о который разбивались все мои усилия»[115]. Затягивать подписание конвенции Меттерних не стал и ради возвращения Браунау, оккупированного французами. Эту крепость охотно заняла бы союзница Франции Бавария. И все же Клеменс верен себе: «Я вышел из дела гораздо лучше, чем сам рискнул бы надеяться»[116]. Хотя Штадион слегка посетовал, что посол часто действовал без формальных полномочий, но одобрил достигнутые им результаты. 10 ноября 1807 г. Франция и Австрия обменялись ратификационными документами. Шампаньи передал Меттерниху комплименты Наполеона за его заслуги в достижении «совершеннейшей гармонии» между Австрией и Францией, а кроме того, и табакерку в 30 тыс. франков. Штадиону пришлось после этого позаботиться насчет подарка для Шампаньи.
Теперь Меттерних мог сосредоточиться на проблеме австро-французского союза. Штадион, по всей видимости, решил предоставить ему большую свободу рук. Во-первых, у него оставались опасения по поводу франко-русского сближения, а во-вторых, активность Меттерниха должна была послужить прикрытием для подготовки очередной войны против Наполеона. Пусть Меттерних флиртует с французами, а тем временем можно будет укрепить военные и финансовые позиции австрийской империи. Зондаж Меттерниха у Шампаньи насчет перспектив союза, однако, не дал обнадеживающих результатов. Казалось, Наполеон утратил всякий интерес к Австрии. Это настораживало Меттерниха, он стал мучиться кошмаром русско-французского альянса. Но в ноябре 1807 г. в игру неожиданно для австрийского посла вступает Талейран.
Мотивы сближения Талейрана с Австрией основательно раскрыты в исследованиях Е. В. Тарле и Ю. В. Борисова. Читатель может ознакомиться и с изданными на русском языке мемуарами выдающегося дипломата. Здесь речь пойдет лишь о линии взаимоотношений Меттерних – Талейран. Интересно, что контакт с Австрией Талейран завязывает первоначально не через Меттерниха, а через упоминавшегося уже генерала Винцента. Посредником был доверенный Талейрана баденский посланник Э. Дальберг. Французский министр (а Талейран тогда еще занимал этот пост) дал понять, что всегда был другом Австрии, пытался придать наполеоновской политике более умеренный характер. В Вене Штадион отнесся к талейрановскому зондажу с явным недоверием. Но после Тильзита он решил использовать внезапно открывшуюся возможность. Меттерниху было указано войти в контакт с Дальбергом. К тому же секретарь парижского посольства Флоре, очень близкий Меттерниху, еще раньше установил отношения с Дальбергом. Но тот не вызывал доверия у осторожного Меттерниха. Посол скептически воспринял донесение Винцента. Однако его депеша от 12 ноября 1807 г., отправленная после долгой беседы с самим Талейраном, свидетельствовала о том, что Меттерних всерьез воспринял очередной поворот в жизни своего французского коллеги. Два грансеньора хорошо понимали друг друга.
Меттерних смог убедиться, что Талейран побуждаем не только личными корыстными соображениями и готовит себе запасную позицию на случай непредсказуемого будущего. С подобными побуждениями сочетались у него и принципы, весьма родственные меттерниховским. Еще их сближал и страх перед «русской системой» и стремление восстановить европейское равновесие. Не стоит преувеличивать, но и не следует забывать того обстоятельства, что оба в юности прошли курс у теоретика равновесия Коха в Страсбургском университете. Оба надеялись, что в постнаполеоновское время австро-французский альянс станет барьером на пути продвижения России в Европу. Тильзит, говорил Талейран Меттерниху, «не перейдет, как кое-кто ожидает, в систему; он поставил вас в наилучшую позицию, потому что каждая сторона нуждается в вас, чтобы контролировать другую, и если вы поведете себя умно, в соответствии с духом момента, который ни вы, ни кто-либо другой не в состоянии изменить, то вы выйдете в конечном счете из великой борьбы с большей славой, чем любая другая держава»[117].
В рассуждении Талейрана нетрудно увидеть четкие очертания той стратегии, которая проглядывала в более раннем анализе у самого Меттерниха, стратегии, которой австрийский дипломат, правда не всегда последовательно, будет придерживаться вплоть до падения Наполеона. Хотя в ней и был заложен сильный антинаполеоновский заряд, но было бы упрощением видеть только эту сторону. В той же, если не в большей мере эта стратегия нацелена против возможного преобладания в Европе могущественной Российской империи. Отсюда неоднозначность мотивов в политике Меттерниха. Репутация убежденного противника Наполеона позднее побудила его спрямить задним числом свой собственный политический курс, придать ему последовательную антинаполеоновскую направленность. Этой задаче подчинена и публикация документов, осуществленная под непосредственным наблюдением его сына. Меттерних предстает в роли рока Наполеона. В немалой мере под влиянием этих источников Г. фон Србик рисует образ Меттерниха как непримиримого, принципиального врага Наполеона. Вполне естественно, что такой Меттерних не мог относиться серьезно к идее австро-французского союза, а лишь «морочил» этой идеей Наполеона[118].
Подобная версия выглядит не очень убедительно уже хотя бы потому, что Наполеон был дипломатом не меньшего калибра, чем полководцем; все козыри были у него на руках, и не австрийский посол морочил ему голову, а он играл с ним как кошка с мышью. Не учитывает в должной мере эта версия и диалектики отношения Меттерниха к Наполеону и его империи. Причем диалектика эта складывается как раз в парижские годы. Прибыл Меттерних во Францию ярым ненавистником узурпатора, но то, что он увидел в наполеоновском государстве, поколебало его предубеждения. Дело заключалось не только и не столько в личном обаянии императора французов. Тем более что общение с ним тогда было редким и чаще всего официальным.
Гораздо сильнее на него повлияла сама империя – плод деятельности Наполеона – законодателя и правителя. По словам Меттерниха, Наполеон был законодателем и администратором по инстинкту[119]. Посол не мог сдержать восхищения эффективностью наполеоновской системы, бесперебойным и точным функционированием ее механизмов, он воздал должное ее полицейскому аппарату, а также разведке и контрразведке. Его наблюдения парижской поры отразились на всех его проектах административно-управленческих реформ, в его подходе к проблемам национальностей в империи Габсбургов.
Он извлек уроки из наполеоновских методов обработки общественного мнения. В пренебрежении ими Меттерних усматривал грубую ошибку монархических правительств, которых ничему не научила Французская революция. «Общественное мнение, – писал он в послании Штадиону, – самое могущественное средство, которое подобно религии проникает в самые глухие места, где административные меры бессильны; презирать общественное мнение столь же опасно, как и презирать моральные принципы»[120]. Самым же эффективным средством воздействия на общественное мнение, как показывает французский опыт, является пресса. Меттерних ссылался на слова Наполеона, что полдюжины продажных писак могут навести страха не меньше, чем трехсоттысячная армия[121].
От него не ускользнула, однако, принципиальная слабость могущественной и стройной системы. Стоит ее творцу потерпеть поражение или погибнуть, и она рухнет. Ей недоставало укорененности в исторической почве, какой обладали старые династии.
Наполеон перестает быть для Меттерниха воплощением революции. Более того, по его собственным словам, он понял, что «этот человек сам стал дамбой против анархистских теорий во Франции и в тех странах, на которые легла его железная рука»[122]. Он приводит также сказанные ему Наполеоном слова: «В молодости я был революционером из-за невежества и амбиции. В разумном возрасте я, следуя советам и собственному инстинкту, раздавил революцию»[123].
Меттерниху были в общем чужды ультрароялистские предубеждения. Если сразу после провозглашения империи он был склонен рассматривать ее как прикрытие принципа народного суверенитета, то теперь воочию убедился, что единственным носителем суверенитета являлся сам император. Реальный политик тогда явно доминировал в нем над доктринером и поэтому мощь наполеоновской империи в сочетании с ее контрреволюционным характером была в его глазах достаточной ее легитимацией. Теперь уже Меттерних полагал, что революционная анархия может стать следствием развала наполеоновской империи. Наполеон для него – не революционер, а нарушитель европейского равновесия. Следовательно, и борьба против него – это прежде всего борьба за восстановление баланса сил, нарушенного гипертрофированной мощью наполеоновской Франции. Но как раз такой подход, практически лишенный идеологических предрассудков, открывал и возможности сотрудничества с Наполеоном при тех или иных колебаниях баланса сил.
105
Сорель A. Европа и Французская революция. Спб., 1908. Т. 7. С. 392.
106
Srbik H. R. Op. cit. S. 114.
107
Lettres et Papiers du chancelier Comte de Nesselrode. Paris, 1904. T. 2. P. 132.
108
Grunwald C. de. Op. cit. P. 47.
109
Записки герцогини Абрантес. M., 1836. T. IX. С. 314–315.
110
Цит. по: Botzenhart М. Op. cit. S. 114.
111
NP. Bd. 2. S. 122–123.
112
Lettres et Papiers du chancelier Comte de Nesselrode. T. 2. P. 65.
113
Botzenhart M. Op. cit. S. 136.
114
NP. Bd. 2. S. 124.
115
Ibid. S. 127.
116
Цит. по: Botzenhart М. Ор. cit. S. 140.
117
NP. Bd. 2. S. 155.
118
Srbik H. R. Op. cit. S. 117.
119
NP. Bd. 1. S. 278.
120
Ibid. Bd. 2. S. 192.
121
Ibid. S. 193.
122
NP. Bd. 1. S. 97.
123
Ibid. S. 286–287.