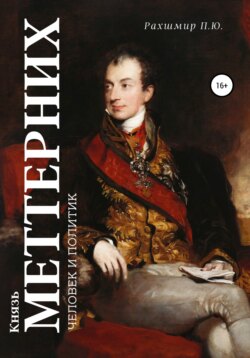Читать книгу Князь Меттерних: человек и политик - Павел Юхимович Рахшмир - Страница 13
Глава III. «…счастливая Австрия, заключай браки»
I
ОглавлениеПосле Ваграмской битвы главный поборник войны граф И. Ф. Штадион взял на себя ответственность за поражение и попросил об отставке. Если верить Меттерниху, Штадион уже накануне сражения выглядел совершенно подавленным. Он относился к людям «живой созидательной силы и светлого разума, которые легко поддаются впечатлениям момента. Люди этой категории склонны всегда к крайностям: для них нет никаких переходов, а так как последнее заложено в природе вещей, то они предвосхищают события, вместо того чтобы подождать и потом работать спокойно»[162]. Меттерниховская характеристика Штадиона, конечно, интересна, но важнее другое. Штадион будто бы сказал Клеменсу, что политика, которую тот предлагал, была более пригодна, нежели та, которой он следовал. Говорил это Штадион или нет, не столь уж существенно; важнее другое – вольно или невольно Меттерних признал, что его политика отличалась от воинственного курса Штадиона.
По версии Меттерниха, уже утром 8 июля 1809 г. император вызвал его к себе и принял со словами: «Граф Штадион просил об отставке; я предлагаю вам его место в департаменте внешнеполитических дел»[163]. В ответ Меттерних будто бы предложил, чтобы назначение было условным, поскольку выглядело несвоевременным, и он еще не чувствовал себя «созревшим» для такой ответственной роли. «Я менее опасаюсь людей, которые сомневаются в своих способностях, чем тех, кто считает, что может все», – сказал ему ободряюще Франц. Далее Меттерних пишет, что пытался отговорить Штадиона, но тот был тверд в своем решении. В конце концов договорились не объявлять об отставке Штадиона до конца войны. Груз ответственности, утверждает Меттерних, он принял только из чувства долга. «Свободный, как и всю мою жизнь, от малейшего честолюбия, я чувствовал только тяжесть цепей, которые должны были лишить меня всякой личной свободы»[164], – уверял он будущих читателей автобиографии.
В действительности эта история выглядела несколько иначе. Клеменс великолепно использовал благоприятную возможность, которая представилась ему в ходе совместного путешествия с Францем из Цнайма в Коморно. Они были вдвоем в карете, и Меттерних мог пустить в ход все свое незаурядное мастерство обольстителя, основанное на умении распознавать особенности психологии людей, с которыми ему приходилось сталкиваться. Любопытны с этой точки зрения написанные им портреты Наполеона и Александра I. Без этой способности сыграть на тех или иных струнах души своих друзей и врагов Меттерних не стал бы мастером политической интриги. Правда, самомнение, склонность к шаблону порой вводили его в заблуждение, а некоторые политические деятели, не укладывавшиеся в рамки его привычных представлений, так и остались для него неразгаданными.
Своего же императора он изучил досконально и, несмотря на разительное несовпадение характеров, стиля жизни, сумел подобрать к нему ключи. Не исключено, что именно их совместная поездка во многом предопределила выбор Франца I.
Меттерних быстро научился не только предугадывать мысли и желания своего кайзера, но и при необходимости облекать их в изящную форму. Более того, Меттерних овладел такой манерой ведения дел, при которой многие его собственные решения выглядели как бы исходящими от императора. Сам Франц очень не любил отягощать себя принятием решений. У него был образ мыслей добросовестного чиновника средней руки. Не может не удивлять сближение этих двух, на первый взгляд, столь разных людей: фривольного грансеньора и добропорядочного бюргера с императорской короной. Дело не только в умении Меттерниха улавливать нюансы настроения своего августейшего повелителя, не только в том, что он разгружал его от массы неприятных и непосильных обязанностей; в Меттернихе с повадками грансеньора парадоксальным образом уживались педантизм и морализаторство. С возрастом эти свойства усиливались. Если изначально в этом еще сказывалось и стремление попасть в ногу с Францем, угодить ему, то постепенно это проявлялось как органичная часть его натуры.
Скорее всего, затяжка с назначением Меттерниха на пост главы внешнеполитического ведомства объясняется не его деликатностью по отношению к Штадиону, а колебаниями Франца. Есть достаточно сведений о том, что Меттерних не очень церемонился с предшественником. Так, Ф. Генц в своем дневнике возмущается тем, как легко Меттерних переступил через Штадиона: «Я никогда не прощу Меттерниху безразличия и легкости, с какой он отнесся к уходу Штадиона, и поистине шокирующей уверенности, с какой он взялся за столь ужасающую задачу, как управление делами в такой момент»[165]. Возникло затруднение, как именовать Меттерниха: уже не посол, но еще и не канцлер. Франц I находит выход, возведя его в ранг государственного министра.
Помог Меттерниху и Наполеон. Ему нужен был подходящий министр иностранных дел в Австрии. В Меттернихе он такового тогда не видел: ведь бывший посол в конце концов примкнул к «военной партии» и обрел, пусть не совсем заслуженно, репутацию одного из зачинщиков войны. Всплывали фамилии представителей старой сановной гвардии: графа Цинцендорфа, барона Тугута. Но первый был слишком уж дряхлым, а второй не рискнул вновь взвалить на себя тяжкое бремя поражения. Между тем Шампаньи и австрийский дипломатический представитель в ставке Наполеона граф Бубна склоняли императора в пользу Меттерниха. Бубна, в частности, старался очистить Клеменса от подозрений в подстрекательстве к войне. По сравнению со Штадионом Клеменс был для Наполеона меньшим злом, именно от этого своего ненавистника он стремился избавиться в первую очередь.
Австро-французские переговоры о мире шли крайне напряженно. Наполеон опасался затяжной войны, которая могла бы приобрести национально-освободительный характер, как в Испании. Ему нужно было как можно скорее кончить дело и в то же время сурово наказать австрийцев. Чтобы сразу же ошеломить их, Наполеон потребовал отречения Франца I и угрожал расколоть Австрийскую империю на три части: Богемию, Венгрию и собственно Австрию. Слава Богу, габсбургских принцев было в избытке. Ультимативное требование Наполеона: либо отречение и сохранение статус-кво, либо тяжелые территориальные потери.
Местом переговоров стал Альтенбург, куда Меттерних прибыл вместе с князем И. Лихтенштейном, сменившим опального эрцгерцога Карла на посту главнокомандующего. И в этот момент Наполеон опять-таки невольно оказал Меттерниху большую услугу. Император французов заявил, что не намерен вести переговоры с Меттернихом, этим «жонглером от дипломатии», а предпочитает, как солдат с солдатом, иметь дело с князем Лихтенштейном. Наполеон не без основания опасался, что Меттерних попытается затянуть переговоры, а императору нужно было поскорее развязать себе руки. Таким образом будущий министр иностранных дел был избавлен от неприятной необходимости ставить свою подпись под крайне суровым для Австрии Шёнбруннским миром (14 октября 1809 г.). Австрийская империя теряла почти 1/3 территории и 3,5 млн подданных, должна была выплатить 85 млн флоринов контрибуции, ее армия ограничивалась 150 тыс. солдат. Франц I особенно тяжело переживал потерю Тироля в пользу наполеоновской союзницы Баварии.
«Я несу мир вместе с моей головой, император по своей доброй воле может распоряжаться и тем, и другим», – сказал по возвращении из Альтенбурга несчастный Лихтенштейн. Нетрудно предугадать реакцию Меттерниха: «Во время переговоров в Альтенбурге я легко мог бы добиться лучшего»[166], – это из письма к Лорель, в котором он, вопреки собственной версии о том, что Штадион добровольно ушел в отставку, пишет, что тот любой ценой хотел удержать свой пост. Несколько позднее в разговоре с Наполеоном Клеменс вновь затронет эту тему: «Я уверен, что никогда не заключил бы такого мира, как этот последний». И Наполеон, по словам Меттерниха, согласился с ним и сказал, что ему довелось вести переговоры со слабыми дипломатами[167].
В правящих кругах Австрии разгорелись упорные дебаты между партиями «войны» и «мира». Меттерних колебался вместе с Францем и не сразу стал апостолом партии мира. Как велико было у него смятение мыслей и чувств, свидетельствует любопытный фантасмагорический план, относящийся к августу 1809 г. Речь шла о том, чтобы идеей восстановления Польши перехватить поляков у Наполеона. Ради этого Австрия и Пруссия должны были отказаться от польских владений, собственно даже не от самих владений, а от права на них, так как Наполеон лишил Пруссию польских земель, а Австрия потеряла свою часть Галиции, полученную Россией за символическое участие в войне 1809 г. на стороне Франции. Франц I отослал этот план Штадиону, тот его, естественно, не принял, справедливо усомнившись в том, что поляки отойдут от Наполеона. Пугать этим Россию тоже не было смысла. На предложение Меттерниха Франц наложил такую резолюцию: «Сохранить в научных целях»[168].
Постоянные колебания Меттерниха, угодливость вызывали презрение у его будущего помощника «верного Гуделиста», самого опытного чиновника госканцелярии. Тот рассказывал Генцу, что на совете у кайзера 7 октября 1809 г. (за день до официального назначения канцлером) Меттерних вел себя «совершенно непоследовательно, говоря о мире и войне в соответствии с тем, откуда дует ветер»[169]. Но именно это в немалой мере обеспечило ему вожделенный пост.
Назначение Меттерниха вызвало в Вене негативную реакцию. Она объяснялась не только тем, что рейнского графа все еще воспринимали здесь как чужака. Многие сочувствовали Штадиону. Меттерниха считали, и не без оснований, интриганом, сумевшим охмурить императора. В венских салонах возникла версия о том, что, воспользовавшись минутной слабостью «доброго кайзера», Меттерних вырвал у него обещание насчет госканцелярии. Самые верные в ближайшем будущем сотрудники Меттерниха сожалели об уходе Штадиона, а в его преемнике видели самонадеянного интригана. 12 октября Генц пишет в дневнике о разговоре с Гуделистом: «Он настолько расстроен, что раскрыл мне всю свою душу. Он не может простить графу Штадиону его уход особенно потому, что тот оставил нас Меттерниху, о котором он говорил с презрением и яростью, удивившими меня, несмотря на все то, что я знал»[170]. Гуделист был скандализирован той манерой, в какой Меттерних говорил о предшественнике, и полон тяжких сомнений насчет его возможностей в качестве главы австрийской внешней политики.
Во Франции назначение Меттерниха было встречено прохладно. Наполеон хорошо помнил, что тот водил компанию с Талейраном и Фуше. Тем не менее по сравнению со Штадионом это был все-таки лучший вариант.
Вместе с Клеменсом радость разделяла только Элеонора. Ее муж стал преемником ее великого деда. Едва появившись в госканцелярии, новый канцлер потребовал, чтобы она обрела такой же вид, какой был при Каунице.
Теперь ему предстояло доказать всей Европе, что ноша, которую он сам постарался взвалить на себя, по силам ему, еще молодому 36-летнему человеку, в послужном списке которого больше было амурных, чем дипломатических дел. Врагов и недоброжелателей насчитывалось у него гораздо больше, чем друзей. Сказывалась естественная зависть к его стремительной карьере. Многих отталкивало его высокомерие, едва смягченное снисходительной любезностью грансеньора. Его двусмысленное поведение в сложных, требовавших решительного выбора ситуациях создало ему репутацию двуличного, ненадежного человека. Хотя круг его знакомств весьма широк, но искренними друзьями он так и не обзавелся.
Начинать новому министру пришлось при самой неблагоприятной внешней и внутренней обстановке. Можно сказать, что он принял дела разоренной компании. Если не весь мир, как он любил говорить, то во всяком случае весь Габсбургский рейх лег на его плечи. «При чудовищной ответственности, оказавшейся тогда на мне, – писал он в автобиографии, – я находил только две точки опоры: непоколебимую силу характера императора Франца и мою собственную совесть»[171]. Впрочем, и та и другая опоры были явно ненадежны: император вполне мог пожертвовать в трудный момент министром, что же касается совести, то она могла служить Клеменсу опорой главным образом благодаря исключительной гибкости и растяжимости.
Возможностей выбора политической стратегии у Клеменса было немного: «Социальные вопросы отодвигались на второй план, все внимание было направлено на сохранение того ядра, которое после неудачных походов оставалось еще Австрийской империей»[172]. Многие авторы, и прежде всего Г. фон Србик, склонны свести к этому всю политическую стратегию Меттерниха с 1809 по 1813 г. На практике все обстояло сложнее. Бесспорно, подобный расчет занимал видное место в планах нового канцлера. Вместе с тем он был сторонником тактического сотрудничества с наполеоновской Францией, и сотрудничество это зашло так далеко, что грань между стратегией и тактикой оказалась размытой.
Символично, что Меттерних затеял перестройку интерьера и организационной структуры госканцелярии по образцу своего знаменитого родича. За этой внешней стороной дела нетрудно разглядеть черты, напоминающие курс Кауница с его ориентацией на альянс с Францией. «Нашей безопасности, – писал Меттерних Францу еще до вступления в должность, – мы должны теперь искать только в сближении с достигшей триумфа французской системой». Конечно, были и сомнения в связи с тем, насколько органично удастся вписаться во французскую систему. Перспективной ему казалась такая линия: «С первого же дня мира мы должны ограничить нашу систему исключительно лавированием, уступчивостью, лестью. Так мы сможем продлить наше существование до дня всеобщего распада»[173].
Для него не было сомнений в том, что наполеоновская империя на европейском континенте уже перешла пределы возможного. «Моя совесть, – писал он в автобиографической записке, – указала мне направление, которому я должен был следовать, чтобы не становиться на пути естественного развития и получить для Австрии шансы, которые могла дать первая из всех сил, сила вещей…»[174]. Тем самым Меттерних хотел бы создать впечатление, что он повиновался всего лишь «силе вещей» (одно из любимых выражений Клеменса), ожидая благоприятного момента, чтобы выступить в качестве спасителя своей страны. Меттерниху импонировало представление о нем как хитроумном и тонком политике, сумевшем искусно переиграть в многолетней затяжной борьбе грозного корсиканца. Это придавало образу австрийского канцлера нечто демоническое, мефистофелевское, но в то же время служило и индульгенцией: ведь все, даже весьма неприглядные его поступки получали оправдание в «великой цели», которой были подчинены все его помыслы и деяния.
Между тем если канцлер и был в чем-то последователен, то в своей непоследовательности, постоянных колебаниях, которые и прежде сопутствовали его дипломатической практике. Но тогда он был хотя и не пешкой, но все же легкой фигурой на дипломатической шахматной доске. Теперь же он, можно сказать, вышел в ферзи, его возможности в определении стратегии неизмеримо возросли; и его колебания вызывали изрядные волны в политической жизни Европы.
Историкам известны слова кардинала Мазарини: «Когда полагают, что австрийскому дому пришел конец, он всегда извлекает из кармана какое-нибудь чудо». Такими чудесами обычно являлись «австрийские браки», посредством которых Габсбурги опутали всю Европу. Чадолюбивый австрийский дом не испытывал недостатка в эрцгерцогах и эрцгерцогинях. «Пока другие воюют, ты, счастливая Австрия, заключай браки», – гласила старинная поговорка. При совсем невоинственном Франце Австрия довоевалась до того, что возникла самая настоятельная потребность в очередном чуде, и в роли кудесника намеревался выступить сам канцлер.
162
NP. Bd. 1. S. 83.
163
Ibid. S. 85.
164
Ibid. S. 86–87.
165
Gentz F. von. Tagebücher. Leipzig, 1873. Bd. 1. S. 185.
166
Цит. по: Corti E. C. Op. cit. S. 192–193.
167
NP. Bd. 2. S. 334–335.
168
Demelitsch F. von. Metternich und seine auswärtige Politik. Stuttgart, 1898. Bd. 1. S. 37–39.
169
Gentz F. von. Op. cit. S. 191.
170
Ibidem.
171
NP. Bd. 1. S. 96.
172
Ibid. S. 97.
173
Ibid. Bd.2. S. 311.
174
Ibid. Bd. 1. S. 97–98.