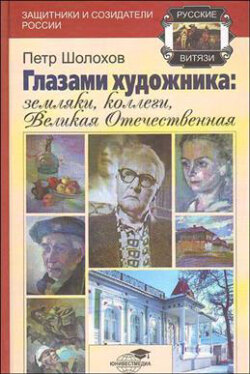Читать книгу Глазами художника: земляки, коллеги, Великая Отечественная - Петр Иванович Шолохов - Страница 10
Часть I
Биографический калейдоскоп
Станция Поворино
ОглавлениеНаша семья находилась ещё в собственном доме, на главной улице города Борисоглебска, когда мне минуло семь-восемь лет.
Мать, Прасковья Андреяновна, переживала тяжёлые дни, торговля отца шла под гору: погорев на скобяных и шорных товарах, известных ему с детства, он решил войти в товарищество по неведомой ему торговле красным товаром. Друзья-компаньоны (их было трое) обворовывали друг друга, пьянствовали, оставляя магазин и товары на приказчиков. Отец снова обанкротился, зажиточные братья матери, тоже из торговцев, пришли на помощь нашей семье в эту критическую минуту. Семейным советом было решено, заложив дом в городе, собрать последние средства и уехать на станцию Поворино, возобновив торговлю, уже мелочным товаром. Старших детей, брата и сестру, учившихся в городе, оставили на хлебах в доме деда, а меня, первоклассника, и двух малышей родители забрали с собой на новое место жительства. Я без труда был переведён в первый класс начальной школы.
Лавка находилась неподалёку от станции, потому вначале торговля пошла бойко. Всё же отец не мог сразу овладеть собой, продолжая по-прежнему пить горькую, на мать всей тяжестью легла, кроме хлопот по хозяйству, необходимость пополнять лавочку товарами. Для этого она часто заезжала в город, оставляя меня помощником отцу. Хозяйство без неё вела хромая и горбатая бабушка Малаша, родная сестра нашей бабушки. Возвращаясь из города, мать заставала отца в нетрезвом виде, спящим в разгар торговли или вовсе отсутствующим, меня же, совсем ребёнка, в качестве хозяина отвешивающим покупателю вместо соли сахарный песок; нередко, видя мою беспомощность, расторопные посетители отбирали у молодого хозяина нож, сами резали колбасу, сало, взвешивали и расплачивались, как им было угодно. Словоохотливые балагурили со мной, расспрашивая о родителях. Тем более, окружённый вкусными товарами, я скучал, встречая мать радостным оживлением, она же, проверив наличие товаров и выручку, безмолвно плакала – ругать меня было бесполезно! Я был ещё слишком мал и глуп для такого ответственного дела, как торговля. Бывало и так, что мать провожала меня в город за товарами в дом деда. Я любил эти поездки, радовала свобода от школьных занятий, от уроков; пейзажи за окном, поезда, люди, их разговоры, чёрные паровозы с огромными красными колёсами, свистки, пары дыма, свечи в вагонах – всё служило развлечением юному пассажиру. Правда, было одно обстоятельство, заставлявшее меня испытывать беспокойство, – это появление контролёров. У этих дядей со щипцами почему-то всегда были хмурые лица. Они смотрели под лавки, залезали на верхние полки и перед тем, как поставить на билете дырочку (что было мне интересно), внимательно и долго изучали билет. А так как я ехал один с громоздкими вещами, то не обходилось без расспросов. Старшие в доме заготавливали мне мешки, пакеты, какие-то бутылки, а я целый день был предоставлен самому себе, на следующее утро отправляясь в обратную дорогу. Моя роль ограничивалась присмотром за багажом, мне брали билет, усаживали в вагон, а на станции Поворино мать выходила к поезду встречать. Ежедневно утром и вечером между Борисоглебском и Поворино курсировала эта, как её называли, малашка или максимка (подразумевая Максима Горького, работавшего одно время в Борисоглебских железнодорожных мастерских).
В доме деда я виделся со старшим братом, оканчивающим уездное училище и сестрой-гимназисткой. Среди их книг особенно нравилась хрестоматия с русскими сказками, я усаживался у окна с этой книжечкой и проводил время в одиночестве. Моё воображение было увлечено Иванушкой-дурачком, я с упоением читал по складам, путаясь в мелкой печати, чуждой привычному букварю. Иванушка забрасывает клёцками собственную тень, принимая её за живую. Иванушка рубит сук, на котором сидит. Дурачок совершает много забавных нелепостей, милых моему сердцу, потому что в своих похождениях он неизменно остаётся победителем-героем. К вечеру за окном – оно было обращено в соседский двор – раздавался смех, там появлялись взрослые девицы, они шумно и весело играли, не обращая на меня никакого внимания, но я, закрыв книгу, был весь поглощён сценой, с жадным любопытством смотрел в этот новый, и для меня волнующий, мир. Особенно меня привлекала одна девушка с удивительно милым болезненным лицом, она была грустна и молчалива, длинные косы чёрными лентами обвивали её тонкую шейку. Это видение, озарённое прочитанными сказками, вошло в сознание как образ русалки и долго преследовало меня в моих детских снах.
В часы обеда, часто и ужина, меня звали к столу, тогда по крутой лесенке я спускался вниз в спальню деда, служившую одновременно и общей столовой. Во всю длину комнаты обеденный стол с креслом деда посередине. Под потолком на улицу ряд окон, в которых то и дело сверкают пятки прохожих – помещение было полуподвальным. Передний угол в иконах, с негасимой лампадой, веткой кипариса далёкого Иерусалима, вербами и святой водой – дед за свою долгую жизнь два раза совершал путешествие ко граду Господню. Под иконами Библия, с которой он никогда не расставался. В другом углу, под ситцевым пологом, его деревянная кровать. Разговоров за обеденным столом дед не любил: приметив оживление в нашей стороне, он недовольно крякал, коротко бросал пословицу: «Хлебают не бают, а едят не говорят». Сестра указывала мне глазками в сторону деда, а я в смущении умолкал, забивая рот солониной. Приходил наш горбатый крёстный, старший брат отца, он всегда опаздывал. Перекрестившись поспешно в один угол, он громко сморкался в другой и усаживался на своё постоянное место. Почёсывая отвратительную плешь за ухом, доставал из кармана баранки и, поваляв их в холодных, всегда потных руках, наламывал в тарелку со щами. Рассказывая деду церковные новости, крёстный обрушивался на евреев и студентов, именуя их кидамиями и стрыкулистами.
Долее одного дня я редко задерживался в городе, тоскливо покидая книгу со сказками, окно в соседский двор.
На станции Поворино, рядом с нашей квартирой, открылось колбасное производство Смирновых. У нас в лавчонке под потолком висела обычно одна связка колбасы, теперь через щели забора во дворе я увидел горы этой продукции, почему-то пересыпанной белым порошком, после я узнал, что это была селитра. В таком изобилии колбаса вовсе не вызывала аппетита, а в горячем виде она была просто противна на вкус, от неё на версту несло запахом испорченного мяса, чеснока и других специй. Подружившись с сыном колбасника, я скоро проник на территорию производства. В отсутствие взрослых мы допускали непозволительные шалости: то забирались на гору колбас, задрав пальтишки, катались, то, выбрав колбасу поувесистей, сражались, колотя друг друга. Этим же способом преследовали жадных, отвратительных крыс.
Неподалёку от нашей лавчонки, почти в поле, жил другой мой товарищ по школе, у которого я нередко проводил долгие зимние вечера в тепле и уюте. Покончив с уроками, мы развлекались игрой в карты, грызли жареные подсолнухи. Совсем по-особенному гудел здесь в трубе ветер, как-то жалобно скрипели ставни на окнах, и что-то шумело у них на чердаке. А во дворе, на цепи, в своей холодной заснеженной будке непрестанно выл пёс. Всё здесь было во власти стихии. Зимой, в самые лютые морозы, забежавшим в посёлок волком была растерзана их несчастная собака. Выскочив за дверь, мы стояли на высоком пороге, наблюдая неравный поединок. Во все стороны летели клочья шерсти, снег обагрился кровью, жалобный визг и рычанье смешивались с лязгом цепи увеличивавшей беспомощность бедной собаки. В эту ночь я остался ночевать у товарища.
У моей матери была корова. Больную, лишённую молока, её решили прирезать. Заявился мясник. Первый раз мы, дети, присутствовали при этой жестокой казни, любопытство преодолевало страх. Привязав за рога к столбу обречённую жертву, мясник приставил к её виску тупой болт и со всего размаха вогнал в голову. Корова с невероятной силой метнулась в сторону, оборвала верёвку и, отчаянно вертя головой, обезумев от боли, скакала по двору. Мы бросились врассыпную кто куда, растерялся и сам мясник. Наш маленький дворик мгновенно был залит кровью. Не помню, как удалось мяснику прекратить эти страдания, но из нашей кухни мы долго слышали убийственный рёв и жалобные стоны бедного животного. После, усевшись вокруг мясника, залитого кровью, мы со страхом и отвращением наблюдали, как распоров брюхо и выпустив внутренности, мясник подвесил за ноги к перекладине нашу бурёнушку. На глазах она превращалась в кровяную тушу. Мужик работал с остервенением, сверкая белками глаз в нашу сторону, свирепо держа в зубах окровавленный нож. Мы не могли без отвращения есть жирные щи из этого мяса, но детская память коротка. Когда мать, по примеру соседского колбасного производства, приготовила её домашним способом, мы уничтожали полученное с большим удовольствием.
В эту же памятную зиму, в мрачном доме гостиницы, в одном из её номеров произошло убийство. Наутро собралась толпа зевак, приехал шумный урядник, врач в белом халате и с ним поворинский мужичок, знакомый бабушки Малаши, похожий по виду на разбойника, со странным именем Михелёк.
– Он потрошить будет, – загадочно говорила матери Малаша.
По окончании следствия, протоколов, допросов и процедур с телом покойника, Михелёк, освободившись, пришёл к нам в дом; за чаем с бабушкой Малашей страшный гость красочно расписывал подробности ограбления и убийства проезжего. Мы, дети, долго боялись нашего мрачного дворика и большого дома хозяина, всё чудились там крики и кровь.
Квартира наша с сырыми стенами и маленькими окнами была неуютна и нездорова. Насквозь промерзали углы, вечно топилась антрацитом железная печь, распространяя грязь и удушье. По ночам под полом начиналась возня крыс. Мать не любила кошек, по нашей просьбе появился котёнок, мы привязались к нему, обряжая в тряпки, как человека. Бедняжка погиб, крысы утащили его в подпол. В наших тапочках он был лишён единственной своей защиты – когтей.
Начальная школа, в которой я учился, представляла одну небольшую комнату. В тесноте размещались все три класса. Раздевалки не было, свои одежонки дети подкладывали под себя. Наш первый класс был самым многочисленным, он занимал половину всей площади – пять или шесть длинных неудобных парт, сдвинутых навечно, не давали убирать помещение. Вызываемому к доске приходилось преодолевать массу препятствий. Под другим углом сбоку располагались парты второго класса, их было меньше, они были короче и новее. Эти два класса писали исключительно на грифельных досках, и только старшие, в третьем классе, имели тетради; парты, кажется, две, были с откидным верхом, удобные, помещались отдельно в углу. Весь этот школьный инвентарь густо изрезан ножами многих поколений. Когда у старших был диктант, среднему классу давалась задача, а нам, малышам, учительница устраивала урок чистописания. Две-три буквы, начертанные рукой Марии Ивановны, служили образцом. Мне после городской школы эта обстановка казалась жалкой. Вызванный к доске читать вслух по букварю, я, по городской привычке, привыкнув к высоким потолкам, звонко орал во весь голос.
– Вот так и нужно читать всем, громко и отчётливо! – хвалила меня перед классом учительница.
Зима была жестокая, после морозов, начались февральские заносы и метели. Однажды, собравшись на уроки, мы не обнаружили ни школы, ни ворот – всё было погребено в сугробах. Дружной гурьбой, достав лопаты, вместо учения принялись откапывать свою школу, спасать нашу добрую Марию Ивановну. Вначале были слышны её глухие призывы о помощи, затем уже спокойные слова команды, доносившиеся к нам в виде загробного голоса. В этот день было не до учения. Ворота долго оставались под снегом, образовав гору, они служили нам катком на переменах для развлечения.
Выбежав как-то в морозный день из школы, я, увлечённый примером старших ребят, стал преследовать мчавшихся порожняком лошадей. Уцепившись кое-как за дровни, я с трудом влез и уселся между скользящими полозьями и тут же свалился, тащась по ухабам, пока тупой удар по голове не отшиб мне память, я потерял сознание. Очнувшись, придя в себя, я ожидал покорно дальнейших событий. На моё счастье, эта подвода была последней, и я, отряхнувшись от снега, не чувствуя вгорячах растущей на голове шишки, счастливцем отправился домой. Проходя мимо двухэтажного дома буфетчика, я привёл себя в порядок, черноглазая дочка хозяина начала увлекать меня не на шутку.
По субботам перед праздничным днём на станцию Поворино из села приезжал заштатный священник с целым церковным имуществом: иконой, кадилом и свечами. Неуютный вокзал начинал выглядеть настоящим церковным пределом. Мне нравилось такое превращение. За буфетом, на возвышении, устраивался алтарь, возле огромного станционного самовара становились певчие, вместо горячего чаю и холодных закусок там возникала пища для души. Я усердно отбивал поклоны в сторону буфета, отыскивая глазами своё новое увлечение.
На рождественские праздники из города приезжали в отпуск старшие – брат и сестра, и мы весело проводили Святки. Во всём нам сопутствовала Домашка, служившая у матери нянькой. В полночный час убегали в огород к плетню, почему-то нужно было вытащить кол, по внешним признакам которого определяли судьбу. Под случайными окнами, постучав, спрашивали, как зовут жениха или невесту, получая нелепые ответы. Набегавшись по морозу, усаживались дома, в тепле, возле блюдечка с водой, капая с него горячим воском. Получались бесформенные фигурки. Гадали, что бы это значило? И чаще всего воображение рисовало кольцо, гроб, какую-нибудь букву или зверя – что подсказывала услужливая фантазия. Администрация железной дороги в эти памятные дни устраивала рождественскую ёлку – чего там только не было. С огнями и богатыми подарками, это было грандиозное зрелище. Мне досталась жалкая ручка с пером и яркий кулёчек с гостинцами. Осталось чувство обиды.
С сестрой и Домашкой увязался я гулять на вокзал, встречать и провожать поезда. Поворино – станция узловая, движение огромное, можно было встретить много интересного. Там, на открытых платформах, мы впервые увидели подводную лодку, возле неё горделиво расхаживали красавцы матросы в своих бескозырках и с кокетливыми ленточками. Брюки-клёш, флотские тельняшки в полоску – всё это увлекало. В другой раз среди товарных составов увидели вагон с настоящими индейцами. Это были переселенцы – экзотические костюмы, татуировки на лицах, мокасины – будто со страниц книг Майн Рида.
Красивый рослый мужчина-индеец вошёл и к нам в лавчонку, по его просьбе мать наскоро сшила ему простую косоворотку. Объяснялся он мимикой, жестами. Я с восхищением смотрел на его головной убор из перьев, странную палочку в ноздрях. Мне он казался вождём индейского племени. Воображение дорисовывало прерии, стада бизонов, бумеранги, отравленные стрелы и прочую романтику, почерпнутую из книг.
Между тем, отец наш продолжал пить, омрачая и без того невесёлую жизнь матери. В лавочку в отсутствие матери стала похаживать игривая кухарка буфетчика, получая от отца подарки. Как-то в сумерки я возвращался домой от товарища, идя мимо дома буфетчика, вызывающего у меня какое-то особое чувство благоговения. В раскрытых на этот раз воротах я увидел безобразную сцену драки двух женщин. Я никак не мог разобраться, поверить глазам, так чудовищна была увиденная картина. В одной из этих женщин я признал родную мать. Всегда скромная, вежливая с посторонними, здесь она мало была похожа на себя. Откуда взялась у неё сила? Мать таскала за волосы кухарку буфетчика, нанося ей удары. В слезах я бросился бежать, лишь бы не видеть и не слышать ничего. Долгое время не мог забыть позорной сцены, избегая оставаться с матерью наедине, особенно встречаться с ней глазами. В эти дни, возвратившись из школы, я увидел у дверей нашей лавочки рысака, впряжённого в дрожки; красивый конь ржал, бил нетерпеливо копытом, в доме слышались слёзы, шум голосов – там шло бурное объяснение: из села приехал старший брат матери – «грозный дядя Вася». Отец, успевший с утра напиться, решительно вытолкал родственника на улицу, тот отвязал своего рысака и уехал без дальнейших рассуждений. В эту минуту я готов был простить всё опустившемуся отцу.
Короткое пребывание нашей семьи на станции Поворино внесло в мою жизнь столько новых, неведомых ранее ребенку переживаний. Я как-то повзрослел в одну эту зиму. Торговля у родителей не наладилась, наступила весна, таял снег, а вместе с ним растаяли последние средства семьи. Дальний родственник из села Пески, торговец скобяным товаром, предложил отцу выход – заведовать его магазином.
Из хозяина превращаясь в старшего приказчика, он уехал в Пески, а мать, забрав нас, детей, уехала в город, и мы снова поселились в своём заложенном-перезаложенном доме на большой улице города. Нас каждую минуту могут выбросить на улицу кредиторы, живём, как говорится, из милости. Для матери потянулись будни, борьба за кусок хлеба. У меня с ней общая обувь – одни женские калоши. Какие переживания подростку! Весь наш дом в квартирантах, мать проявляет находчивость, развивает кипучую деятельность. На одной фабрике берёт пошивку белья, на другой – дешёвую карамель для завёртывания в разноцветные бумажки. Работа грошовая, трудится вся семья, но внутренне мать теперь спокойна, переменился и отец, пить перестал, любимое дело, которое он знал хорошо, оздоровило его окончательно. Он изредка приезжает к семье в город с подарками, весёлый, здоровый и чистый, как видно, совсем примирившийся с новым положением приказчика. Станция Поворино, торговля в мелочной лавочке осталась для семьи на всю жизнь непрерывной цепью мрачных картин. Отцу уже не суждено было снова стать хозяином-торговцем, он умер приказчиком, как-никак самолюбие взрослых членов семьи страдало, видя в этом факте унижение. Но в революционные годы, когда «анкетная лихорадка» свирепствовала с особенной силой и гражданам при приёме на работу предлагались бесчисленные вопросы, я в графе «Происхождение и занятие родителей до революции», облегчённо вздохнув, гордо именовал себя сыном приказчика.