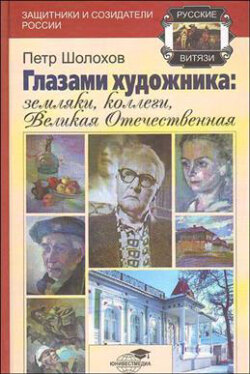Читать книгу Глазами художника: земляки, коллеги, Великая Отечественная - Петр Иванович Шолохов - Страница 17
Часть I
Биографический калейдоскоп
Верхний Карачан
ОглавлениеВ моих руках удостоверение в виде жалкой четвертушки линованной бумаги, она гласит о том, что в 1918 году я был преподавателем Карачанского высшего начального училища. Удостоверение заверено круглой печатью и подписями. В стране свирепствовали гражданская война, голод и разруха, но это село каким-то чудом оставалось мирным уголком. Была здесь и партийная ячейка, организованная, между прочим, сыном священника местной церкви, комитет бедноты возглавлял вечно пьяный инвалид империалистической войны, да и так называемые кулацкие семьи пока что жили спокойно, будто и не было никакой революции. Мне и моему родственнику Георгию, жителям города Борисоглебска, предложили места учителей в Верхнем Карачане. Нам нет еще и двадцати лет – Георгию с его аттестатом мужской гимназии поручаются математические науки, мне, учившемуся в художественной студии города Борисоглебска, – рисование, черчение и, для округления ставки, уроки географии.
За учителями в город присылают лошадь. Над головой изумрудное небо бабьего лета, под ногами опавший лист золотой осени. Лошадёнка еле тащится, мы тоже идём неторопливо. На возу, в чемоданах, груз премудрости: история искусств (всех времён и народов) Гнедича, тощий учебник географии Иванова и задачники Георгия. Есть и чтиво: от Чехова до Леонида Андреева. Из иностранной литературы, кроме Кнута Гамсуна и Джека Лондона, книжка о Шопенгауэре и томик «Заумной философии» Фридриха Ницше. Распростившись с лесной дорогой, едем полем.
– Теперича до Карачана рукой подать, – говорит мужичок, берясь за кнут.
Село, расположенное в котловине, открылось неожиданно блеском крестов колокольни. Подняв хвост, обрадованная лошадёнка демонстративно остановилась и ржёт от удовольствия. Повременив, наш возница берёт её под уздцы, и мы спускаемся в низину. Здесь, на обширной площади, кроме церкви ещё и трактир – довольно ветхое здание с круглым высоким порогом и навесом по всему фасаду – здесь наша квартира. Передняя комната сплошь заставлена столами и скамьями, у буфета за стойкой суетится старушонка – это хозяйка, она добродушно покрикивает на сонных дочек. В глубине трактира красная дверь в уютную комнатёнку с горячей печкой и двумя кроватями для новых жильцов. В углу икона с лампадкой и сундук с приданным дочек хозяйки. Два крохотных оконца у стола, на двери крючок.
По всему видно, молодые люди попали в райскую обстановку, их школа вне села в старом особняке господ Парфёновых; бывших владельцев загнали в подвал, вся их семья от мала до велика – последователи Льва Толстого, вегетарианцы, живут огородом. Школа на высоком фундаменте, окнами обращена в большой запущенный сад. Две огромные светлые комнаты с террасой и колоннами отведены под классы. Тесноватая учительская забита школьным инвентарём. Глобус и рыжие географические карты, имея ко мне непосредственное отношение, пугают. Первым делом знакомимся с местными учителями, их пока что двое. Кученкова Александра Васильевна, Шура, как мы звали её впоследствии, окончив в Петербурге Высшие женские курсы, преподавала русский язык. Несмотря на кулацкую семью, пользовалась на селе общей любовью. Молодая женщина, лет двадцати трёх – двадцать четырёх. Она была умна и женственна, и в то же время по-мужски курила махорку, не отказывалась от самогона. В ней всё было горячо и таинственно, вплоть до жениха, в существование которого мне не хотелось верить. Учитель пения Хитров, из местных жителей, руководил церковным хором, самоучкой играл на скрипке, при первой встрече отрекомендовался просто – Григорий. Уроки истории и естествознания пока что оставались свободными. Мне представилась возможность поехать в город с адресами возможных учителей для переговоров.
Я отправился в семью Рашевских, к Верочке, недавно окончившей гимназию. Её я знал по рассказам Георгия, учившегося с её старшим братом в гимназии. В семье Рашевских главой семьи была мать, в прошлом учительница. Я не скрыл от матери и дочки, что у меня на руках имеются и другие адреса. Карачановскую обстановку я представил ей в самом привлекательном свете. Кандидатка в учительницы стояла молча в дверях, она была очень мила, с пышной косой и ласковыми серыми глазами. На вид лет шестнадцати, миниатюрная блондинка, выглядела девочкой-подростком.
– А почему Вы остановились именно на Верочке? – лукавый вопрос родительницы заставил меня откровенно покраснеть.
Забыв всю дипломатию, я растерянно молчал.
– Ну, судя по Вам, там всё отлично! – заключила маманя и тут же дала своё согласие.
Начался учебный год, мой страх перед уроками географии оказался напрасным. В сельской школе царила патриархальность, авторитет учителя был непогрешим. Возраст учеников – парней и девушек – был подстать нашему. Учительницу истории и естествознания ждали с нетерпением, а когда она наконец-то явилась, от неё все были в восторге. Правда, Верочке скоро пришлось помогать, её до смешного никто не боялся. На уроках молодая учительница усаживалась где-нибудь позади класса, растворяясь среди учеников. Квартиру Верочке выделили неподалёку от нашего трактира у одиноких старушек – бывших монашек.
Между собой наши учительницы жили на редкость дружно. Верочка быстро подчинилась более опытной Александре Васильевне, самогонку пить она не смогла, но курила уже вполне самостоятельно – вместе с этим Верочка в моих глазах теряла былую привлекательность.
Осень того года была сухая, тёплая и долгая, вся обстановка способствовала нашим прогулкам с учительницами по вечерам, чаще всего мы уходили в поле, к той дороге, по которой въехали впервые в село. Там, погнавшись за Верочкой, я поскользнулся и упал, порвав на коленке новые брюки. Вгорячах я не почувствовал боли, гораздо чувствительнее оказались издёвки Георгия. Увидев меня с продранным коленом, он воскликнул:
– О, Езус Мариус! Что я скажу теперь Прасковье Андреяновне? Ты помнишь, Пётр, наказы матери беречь новые брюки?
Я сгорал от стыда и смущения, а Георгий под общий смех продолжал издеваться:
– Ты, – говорит, – смотри за ним, Вера, чтобы этот оболтус новые брюки не занашивал.
Верочка вручила мне две английские булавки, а по нашем возвращении Шура, невзирая на мои протесты, взяла злополучные брюки и утром, к урокам, катастрофа была ликвидирована. Кажется, эта прогулка наша с учительницами была последней.
Поздняя осень с неизбежными заморозками, холодными дождями, мокрым снегом отрезала нас от всего окружающего, да и занятия в школе стали требовать серьёзной подготовки. Мы замкнулись в своих стенах. По возвращении из школы нас ждал обычно готовый обед. Старушка-хозяйка была к нам весьма внимательна, сосредоточивая у нашего стола все запасы, находящиеся в её распоряжении. Буфет трактира, горячая еда, погреб и даже её дочки – всё приводилось в движение. Обстановка поощряла нас к обжорству, и мы, соревнуясь, не щадили своих животов. Я не буду описывать меню, оно не было разнообразным. Порции были немаленькие, пища тяжёлая, но не было случая, чтобы мы не доедали. Если мы появлялись почему-либо раньше обычного, нам подавали в виде закуски огромную сковороду жаркого из кусков свинины с картофелем. Это дежурное блюдо трактира неописуемо. Будучи раскалённым, оно жглось, прыгало со сковородки на стол, брызгалось, шипело, будто живое. Георгий, раздувая ноздри, как арабский конь, торжественно изрекал:
– А ну, Пётр! Не посрамим земли Русской!
От заворота кишок нас спасали два пузатых чайника с крутым кипятком и мёдом. После такой трапезы набрасывался в комнате на дверь крючок, и мы лениво разбредались по своим койкам. Однажды по возвращении из школы мы обнаружили в трактире мёртвую тишину, холодную плиту и отсутствие хозяек. Это было воспринято нами по меньшей мере как землетрясение. Не понимая, в чём дело, досадуя, мы принялись разыгрывать роль смертельно оскорблённых.
– Старуха совсем от рук отбилась, – ворчал Георгий, вращая белками глаз.
Я тоже вторил ему:
– Хороша тёща! Нечего сказать.
– Чёрта с два, – продолжал Георгий. – Придётся ей выговор закатить!
– Слушай, Георгий, давай объявим голодную забастовку, – фантазировал я.
– Да, это было бы неплохо, но уж больно сейчас жрать охота!
Но вот двери трактира захлопали, во всех углах раздались живые голоса наших хозяек, и всё пошло как обычно, нас пригласили к столу, и гнев наш растаял мгновенно.
После короткого отдыха следовали жареные семечки, за ними отправлялись обязательно вместе. Древняя старушка, соседка, – большая мастерица по этой части. Пристроившись к горячей печке, утопая в лузге, мы читали что-либо по очереди.
В часы обеда трактир закрывался, но за вечерним чаем к нашему столику подсаживались посетители, особенно докучал нам шумоватый во хмелю председатель комбеда, нам никогда не удавалось видеть его трезвым. Он любил спорить и своих противников убеждал костылём, с которым никогда не расставался. Нас с Георгием он звал почему-то коллегами, рассказывал свою пьяную биографию, соблазнял самогонкой. В сумерки в нашей комнатке зажигалась керосиновая лампа с бумажным абажуром, и мы деятельно готовились к урокам.
Трактир не имел двора и удобств. Неподалёку хозяйкой был куплен пустырь, охраняемый цепной собакой. Туда-то в любую погоду мы по надобности совершали ежедневные прогулки. Наши организмы работали с удивительной точностью, как отрегулированные автоматы, случайное расстройство постигало всегда обоих.
В особо сильные морозы мы спали на одной койке, набожными хозяйками зажигалась лампада, и мы, сумерничая, предавались фантазиям. На стене у нас были снимки с картин Третьяковской галереи издательства «Кнебель». Общей симпатией у нас пользовался портрет княжны Долгоруковой в кружевном чепчике, с чудесными глазами работы художника Кипренского. Учительницам, тем более простоватым дочкам нашей хозяйки, трудно было соперничать с этой гордой аристократкой.
В часы досуга мы ещё и рисовали. У меня был опыт художественной студии и некоторый профессиональный курс, так что, редко удовлетворяясь работой, я часто повторял, Георгий попросту копировал что-нибудь, стремясь к тщательности работы и чистоте. Это создавало ему общее признание окружающих к посрамлению мятущегося учителя рисования. По вечерам, когда оканчивался шум трактира, к дочкам хозяйки собирались подруги, почти у всех этих девиц были хорошие голоса, пелись главным образом украинские песни, концерты устраивались у наших дверей. Нами владело непонятное упрямство, мы боялись нарушить добровольное затворничество, хотя порой нам очень хотелось взглянуть на этих «птичек». По соседству с трактиром жил вдовец – бухгалтер сельпо. Его знало всё село и звало просто Леонидыч. Пожилой, добрый и необыкновенно общительный человек, к тому же на свою беду ужасно влюбчивый – кажется, не было в селе ни одной девицы, которой он бы не делал очередного предложения. Несмотря на эту странность, он был душою карачанского общества. Равнодушие учителей выводило из себя всю эту компанию.
Однажды Леонидыч был направлен к нам в качестве разведчика, мы встретили гостя очень любезно, усадили, я продолжал читать вслух скучнейшие страницы первого тома Гнедича о Египте: «Странные стебли папируса послужили, вероятно, прообразом…» и так далее. Леонидыч, угостившись у нас жареными семечками, беспокойно ёрзал на табуретке, поглядывая на дверь, не решаясь прервать чтение. Мы же с Георгием, будто не замечая беспокойства гостя, продолжали читать: «Иногда к нему прислонялось нечто вроде кариатиды, самый фуст либо украшался каннелюрами, либо расписывался иероглифами». Георгий, добавляя масла в огонь, попросил повторить это интересное место. Убедившись в нашей занятости, Леонидыч откровенно позёвывал, извинялся и исчезал, создавая нам за дверью ореол высокой учёности.
Николин день! Никогда не будет так искрится и скрипеть под ногами снег, как это было в ту далёкую карачанскую зиму. Сохранилась моя карикатура с надписью: «Профессора математических и изобразительных наук по дороге в школу». Фигура Георгия изображена в наушниках от мороза, с прямыми плечами под линейку, сапоги бутылками и огромная кепка – всё в характере. Себя я изобразил с маленькой, сильно запрокинутой головой и опущенными плечами.
К весне совершенно неожиданно изменилась вся обстановка. В мирную жизнь Карачана ворвалась буря Гражданской войны. Село заняли казаки, само собой окончилось и наше затворничество, исчезли уют и беспечность, грубый пинок солдатским сапогом в дверь сорвал крючок, застав Георгия за бритьём. Вояки устроили в нашей комнате настоящую парикмахерскую с очередью. Последний «клиент», приведя себя в порядок, не задумываясь, положил бритву в карман.
Полувоенный костюм, галифе брюк, вся выправка Георгия наводила казаков на мысль забрать его с собой. На меня они как-то не обратили внимания. Хромой председатель комбеда, ещё накануне почуяв недоброе, успел скрыться.
Работа в школе прервалась. Война проходила на наших глазах. Поражало бесстрашие казаков: под градом пуль, спешившись, они спокойно курили махорку, а по бугру вдали виднелись фигурки красноармейцев с пулёметами.
Воспользовавшись временным затишьем, мы с Георгием отправились на село к нашему учителю пения за молоком, кстати, думая послушать его игру на скрипке. Война устроила нам «концерт» на половине дороги, застав в проулке между плетней. Вначале над нашими головами рвалась картечь, осыпая нас осколками. Бабы метались как угорелые, загоняя скотину, закрывая ставни. Нас нагнал конный казачий отряд, загородив весь белый свет. Впереди в чёрной бурке и папахе набекрень офицер, размахивая нагайкой, устраивает допрос. Попираемые грудью лошади, стоим с Георгием бок о бок, вдавившись в плетень. Морда лошади обдаёт мои очки пеной, я слепну. Оснащая речь бранью, офицер кричит:
– Откуда?
Отвечаем:
– Из дома.
Грозный окрик:
– Куда?
– Домой.
– Кто такие?
– Учителя! – отвечаем растерянно.
– Ах, мать вашу! – взревел всадник.
Лошадь под ним взвилась на дыбы, разговаривать было некогда, рвалась шрапнель, вертанув на нас ещё раз нагайкой, пришпорив лошадь, офицер умчался. Бородачи, бросив свирепый взгляд в нашу сторону, ускакали вслед за своим командиром. Под треск шрапнели отряд, торопясь, ураганом промчался вперёд, оставив за собой на снегу свежий след крови. Всё свершилось так молниеносно, что мы не успели даже испугаться, понять, чему подвергались.
В доме Александры Васильевны Кученковой расположился штаб белых, офицерство генерала Гусельщикова. Шура заявилась к нам возбуждённая:
– Вот, ребятушки, и насмотрелась я, полковник там один… красавец мужчина! Борода чёрная, лицо матовое, французским языком владеет, на моём пианино играл, танцует…
Было видно её увлечение. Она сообщила:
– Белая армия движется на Борисоглебск, а сам полковник собирается в отпуск к семье, к детям.
Моё рисование было прервано, Гражданскую войну я считал досадным осложнением на моём пути к искусству. Вскоре начались февральские метели, заносы, школа возобновила занятия. С невероятной трудностью добирались мы в школу по сугробам. В поле встретилась подвода, гроб, накрытый дерюгой, торчал в санях, на нём согнувшись сидел казак, за спиной винтовка, башлык, лошадь бежала трусцой, и скоро всё исчезло, растаяло, как дым… А в школе Шура рассказала нам о гибели этого красавца полковника, собиравшегося в отпуск к семье. Он был убит под Борисоглебском.
В село возвратилась советская власть, а вместе с ней хромой председатель комбеда. Он чувствовал себя героем, сидя в трактире, буйствовал пуще прежнего. Обстановка в селе заметно преобразилась, мирные беседы мужичков на хозяйственные темы сменились политикой и раздорами. Между тем морозы прекратились, весна вступала в свои права.
История искусств Гнедича с её желобками и каннелюрами египетских колонн была убрана на дно чемодана, на нашем столике появилась тощая книжонка немецкого философа-пессимиста Артура Шопенгауэра, она увлекла нас не на шутку, послужив практическим руководством в наших отношениях с учительницами. Узнав из предисловия, что Шопенгауэр был ненавистником женщин, мы оба решили последовать советам философа. Когда один из нас уставал читать, любопытная книжка переходила в руки другого. Георгий, цитируя Шопенгауэра, изрекал голосом оракула:
– Ещё менее они способны удивить мир учёным творением. Женщина во всех отношениях – второй, более слабый, пол.
Ну, хватит: теперь нам всё было ясно. Сообща решили прекратить разговоры с учительницами, объявить им, так сказать, молчаливый бойкот. Наутро в учительской нас душил смех, но мы старались выполнять задуманное. Георгий, открыв шкап с учебными пособиями, сосредоточенно вертел, рассматривая, геометрические тела. Сердито насупившись, с указкой в руках я молчаливо путешествовал по Африке. Учительницам оба отвечали неопределённым мычанием. Ещё не понимая нашего поведения, они осыпали нас вопросами, но, почувствовав, наконец, себя оскорблёнными, оставили нас в покое. Эта комедия не могла продолжаться долго, она вредила занятиям и скоро наскучила. Мы решили обнародовать учительницам мнение философа на их счёт. Мир восстановился быстро, мы всё свалили на голову Шопенгауэра. Этот день в учительской был, кажется, самым шумным и весёлым. Впервые все учителя из школы в село возвращались вместе. Всю дорогу острили, дурачились, на разные лады высмеивая «великого пессимиста». Удивила нас Шура, под конец она воскликнула:
– А что, ребятушки, пожалуй, Шопенгауэр-то был прав. Я вполне с ним согласна!
Верочка, возмущённая философом, обозвав его дураком, всё ещё ерепенилась, утверждая, что этот противный старый холостяк подрался однажды на кухне со своей кухаркой, вот отсюда и вся его философия. С этого дня нашему затворничеству пришёл конец. В тот же вечер, прихватив с собой книжонку Шопенгауэра, мы собрались у Верочки, но читать, к общему удовольствию, нам не пришлось – в лампе монашек выгорел керосин, при свете лампадки пили чай из монастырского сервиза. Теперь наша дверь в трактире совсем не закрывалась, мы пустились в другую крайность – отбросив затворничество, стали гулять по всей ночи, возвращаясь под утро в свой трактир поодиночке. Вместе с этим нарушилось и привычное расписание дня. Аппетиты наши росли, а меню и порции хозяйкой заметно сокращались, не совпадали и прогулки наши перед сном на подсобную территорию. Собака в эти дни совсем лишилась голоса.
На свадьбу Григория мы были приглашены шаферами. Нам пришлось обрядиться в белые перчатки и на потеху всему селу нести венцы над головами новобрачных от самой церкви до дома жениха. За пиршественным столом все гости, кроме учителей, управлялись руками, обходясь без ножей и вилок. Самогонку по всему селу гнали свободно. Нам впервые пришлось принять «боевое крещение». Под утро мы отправились со своими учительницами в школьный сад. Ночь была необыкновенная. Таинственные тени деревьев, серп луны, тишина. Каким-то образом очутился наедине с Верочкой. Сидя на каких-то брёвнах, мы, обнявшись, слушали песни девок на селе, но чувствовал я себя глупцом. Меня охладил первый поцелуй с привкусом махорки. Роман с Верочкой не состоялся.
Леонидыч, страстный любитель общества и театра, радостно приветствовал нашу новую политику открытых дверей. Он затеял любительский спектакль, была выбрана пьеса «Шельменко-денщик», осталось распределить роли. Георгию дали роль дядюшки-холостяка – военного в отставке; роль молодого повесы, его племянника, досталась мне. У Леонидыча главная роль денщика, он был неподражаем и подлинно талантлив! В первом действии чудаковатый дядюшка рассказывает о днях своей молодости, хвастаясь, он крутит ус, игриво звякает шпорами и, топнув каблуком, вдруг кричит, хватаясь за больную ногу: «Ах, проклятая старость!» Молодёжь хохочет, и громче других я – «ветреный беспечный его племянник».
Среди невинных развлечений неожиданно, как снег на голову, на учителей сваливается военная повестка – вызов в мобилизационный отдел города Новохопёрска. Начались сборы в дорогу. Возле нас сразу объединились все женские сердца. Был, конечно, привлечён и Леонидыч, который, руководствуясь опытом своей жизни, вручил нам адрес военного врача, советуя действовать энергично, добиваясь полного освобождения. Девчата, со своей стороны, собрали приличную сумму денег керенками. Нашу телегу буквально завалили продуктами. И вот настал день проводов.
Выехали в сумерки. Карачанские сады были в полном цвету, пьянила своим ароматом черёмуха. Тёплая влажная ночь привела в действие все свои чары. Невидимые нашим глазам певцы-соловьи, как безумные, рассыпали трели. У придорожных гнилых пней в лесу, под самыми колёсами, в лунной тени, мерцали огоньками светлячки. Фосфором светились сырые гнилушки. Девчата во главе с Леонидычем шли за подводой вслед, потом телега, жалобно скрипнув колесами, остановилась. Совершился поцелуйный обряд, нам с Георгием повесили на шею амулеты, что-то вроде маленьких иконок из перламутра. До сих пор хранится у меня эта реликвия, кажущаяся теперь охлаждённому сердцу простой пуговицей. Необъяснимая торжественная грусть снизошла на нас в ту минуту. Но вот, клячонка, отведав кнута, понеслась вскачь. Теряя всякую благопристойность, мы сидели молча, прильнув друг к другу, слушая прощальную песню девчат – она звенела на вдогонку, хватая за сердце. Мы были молоды, и, еле сдерживая стыдливые слёзы, вконец утомлённые, крепко заснули.