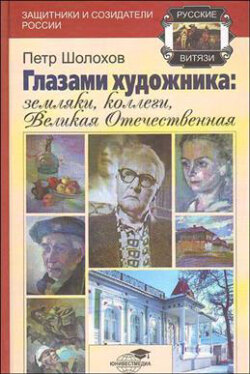Читать книгу Глазами художника: земляки, коллеги, Великая Отечественная - Петр Иванович Шолохов - Страница 16
Часть I
Биографический калейдоскоп
Зять
ОглавлениеПосвящая памяти доброго Михаила Алексеевича Арсентьева
Тысяча девятьсот шестнадцатый год, моя старшая сестра Раиса служит в земстве, она молода, интересна, всё улыбается ей. В больших синих конвертах получает письма с фронта – там её любовь. По протекции поступаю и я писцом в земство, чтобы заработать себе на дорогу в Москву; увлечённый искусством, лелею мысль продолжить образование по окончании художественной студии в родном городе Борисоглебске. Возвращаясь после работы из земства вместе с сестрой, мы беседуем о том, о сём, она неожиданно задаёт мне вопрос:
– Скажи, Пётр, кто тебе нравится из мужчин в земстве?
Увлечённый своим рисованием – угольками и красками, я не подозреваю, что это не просто вопрос из любопытства, и, не подумав, простодушно отвечаю:
– Все так одинаково скучны, искусства не понимают и, к тому же, нехорошо ведут себя, харкают, плюют на пол. Другое дело – наш руководитель в студии…
Сколько ни старалась сестра сбить меня с любимого конька, повернуть разговор на земство, где мы с ней работали, я никак не мог понять, куда она клонит, и упрямо возвращался к любимой теме об искусстве. Наконец, она, видимо, потеряв терпение, ставит мне вопрос ребром, нравится ли мне её начальник по отделу народного образования Михаил Алексеевич Арсентьев. Передо мной возникает солидная фигура, как мне тогда казалось пожилого, мужчины (ему было тридцать лет). Лысина во всю голову, основательный нос.
– Что ж, так себе! – безразлично заявляю я, не замечая её обиды, удивляясь, почему её это занимает, и перевожу разговор на синие конверты: что-то они стали не так часты. Сестра окончательно умолкает.
После этой беседы я невольно начал присматриваться к мужчинам в земстве. В самом деле, этот начальник моей сестры как будто неплохой человек. Глядя на его классическую лысину, начинаю мысленно рисовать её – какая богатая натура! Вскоре эта личность заявляется к нам в дом, знакомится с родителями, и за чашкой чая узнаю, что Михаил Алексеевич Арсентьев делает предложение сестре. У него не так давно умерла первая жена, оставив ему двух малышей, мальчика и девочку, и что особенно поражает меня, как и всех в нашем доме, что сестра согласна, она принимает предложение. «Ну, хорошо! – рассуждал я сам с собой. – Пожилой человек, вдовец, дети, но тогда как же понимать эти письма с фронта, синие большие конверты, любовь? Непонятно!» Это событие осталось загадкой для всех.
Тысяча девятьсот семнадцатый год. Революция! Свобода… После общего ликования в городе начались разбои, убийства, разгром и пожар спиртоводочного завода. Страшное зрелище! Но я с товарищами тайком от родителей убегаю смотреть эту картину. Ближайшие улицы к заводу устланы телами опьянённых, среди них и женщины, водовозы города и крестьяне окрестных деревень ухитряются возить спирт в бочках, городское население вёдрами, всё обезумело! На самой территории завода ужасающие сцены. Люди по телам бесстрашно лезут в кипящие котлы. Нам удалось заглянуть в один: там на дне плавали кишки человека. Обезумевшие люди черпали эту смесь и стремились выбежать во двор, объятые пламенем горящего спирта. Обалдевший от спиртного матрос, вооружённый двумя бутылками, свирепо охранял горы ящиков с водкой.
Дома я застал всех за праздничным столом. Отец уже был навеселе. У нас гость – жених сестры. Он сидит с ней рядом, состоялась их помолвка, а вскоре и свадьба, после чего Раиса покинула родительский дом. В моём обиходе появились неведомые дотоле слова: тесть, тёща – это отец и мать, я – шурин, брат жены, а сам Михаил Алексеевич, муж сестры, стал зятем. Ему я был обязан расшифровкой этих понятий. Он был внимателен ко мне, серьёзно принимал меня за взрослого и этим покорил окончательно.
Новобрачные зажили отлично. У них была уютная квартира в отдельном доме. Сестра сказалась прекрасной матерью сиротам и хорошей хозяйкой в доме. Установилась традиция по субботам собираться у них. Первым делом усаживались играть в карты или лото, игра шла «по маленькой», хозяин предусмотрительно заготовлял разменную кассу из новеньких бумажных рублей и серебра. Особо накрывался хорошо сервированный стол. Михаил Алексеевич был мастером устраивать буфет. Заливная рыба, шпроты, копчёная колбаса, кильки, миндальное печенье, наконец, пышные пироги к молодой хозяйке привлекали глаза, особенно обанкротившихся игроков. Блеск затейливых графинов, посуды, бокалов, стол сверкал особенной чистотой белоснежных скатертей. Двадцать одно сменилось наполеоном. Всё радовало гостей, особенно молодёжь. Шли медовые дни, месяцы, годы, рождались дети, семья росла… Чёрт возьми! Как это было хорошо!
Передо мной стояла, как и у других, первая рюмка вина, сам Михаил Алексеевич, пододвигая закуску, утверждал меня в качестве взрослого.
– Пётр Иванович! – говорил он, глазами указывая на рюмку.
Я по привычке боязливо оглядываюсь на родительницу – не видит ли она меня в новой роли? Да, я окончательно покорён был зятем, и стал он для меня, впрочем, как и для каждого члена нашей семьи, своим, близким человеком. Вот теперь я мог бы ответить уверенно на туманные вопросы сестры насчёт мужчин в земстве. Михаил Алексеевич Арсентьев – прекрасный человек.
После смерти нашего отца Михаил Алексеевич становится главой нашей семьи, без него не обходится ни одно мероприятие; на мой день рождения он делает мне капитальный подарок – вручает увесистый чернильный прибор. Внимание зятя к молодому человеку, каким я тогда был, окончательно покоряет.
В земстве я работал в отделе социального обеспечения, новый родственник переводит меня в свой отдел народного образования. Обуреваемый жаждой искусства, я изрисовывал обратную сторону деловых бумаг, пользуясь бесплатной натурой, делал наброски с посетителей. Подшиваемые к делу листочки могли составить целый альбом, но в результате я запутывал отчётность порученного мне дела. По временам «начальство» делает мне ласковые выговоры, журит, но, в общем, всё сходит с рук благополучно. Предложение ехать учителем в село Верхний Карачан спасёт меня и Михаила Алексеевича с его делами, которые я разнообразил как умел.
В тяжёлые дни голодовок сестра и зять выручают нашу семью. Визиты к ним не обходятся только угощениями; накормив родственника, его снабдят чем-нибудь на дорожку. Делалось это всегда с тактом, сердечно. Несмотря на это, мы однажды с младшим братом Борисом (впоследствии их зятем), засидевшись дотемна, не удержались от воровства, нарыли у них на огороде котелок молодого картофеля. Осуществляя этот дьявольский план, я презирал себя, но голод, как говорится, не тётка! Пережив трудное время, мы с Борисом чистосердечно признались Михаилу Алексеевичу в своих проделках.
Приезжает Тимофей, приятель из села Карачана, ещё удаётся составить ему протекцию. Это добродушное существо (конечно, из рисующих) – сама целина! Он временно поселяется у Михаила Алексеевича. Ежедневная возня с подчинёнными в земстве переносится таким образом в домашнюю обстановку. Вечерами у них можно было наблюдать такую картину: заботливое начальство устраивало Тимофею постель на полу, а тот, беспечно заложив ногу за ногу, покуривал табачок хозяина.
Мечта моя осуществляется. Я в Москве, учусь в художественной школе. Еду на родину в свои первые каникулы, везу матери «в подарок» кучу грязного белья, стоптанную обувь, одежду, требующую основательного ремонта. Быстро мелькают праздничные дни, снова забота об отъезде. Преодолевая невероятные препятствия, достаю плацкартный билет, не обходится без помощи Михаила Алексеевича. Они с сестрой приходят провожать меня в этот вечер. Долго играем в карты, засиживаемся. Шутка ли? Уезжаю на весь год! Пора спать: через 2–3 часа уже идти на станцию. Поцелуйный обряд – и я погружаюсь в сладчайший сон. Часы, как бы сознавая, что их игнорируют, отбивают семь, затем восемь, стрелки подобрались к девятке – чудесный сон продолжается. Караул! Пробудившись наконец, я готов был сойти с ума. Вскочив с кровати, бросался из угла в угол. Родительские стены показались тюрьмой, левая нога упрямо лезла в правый ботинок. Перед глазами всё прыгало, хотелось снова броситься на кровать и укрыться с головой, чтобы превратить этот кошмар в сновидение. Мать, младшие брат и сестра метались вместе со мной как угорелые, действительность была жестока. Я проспал поезд. Мой билет с плацкартой превратился в ничто. Неугомонное сознание рисует мне вдобавок скорый поезд в Москву, мчащийся на всех парах. Безвкусным показался мне мамашин чай в это несчастное утро. Я готов был биться башкой о стену, но обстановка требовала действий. До сих пор помню чувство, с которым я отправился… Куда же? Да опять к нашему доброму Михаилу Алексеевичу! Открыв мне двери, он стоял молча, глядя на меня как на приведение или выходца с того света. Очки у него полезли на лоб, вся фигура изображала вопрос, но, видя мою растерянность и крайнее смущение, он всё моментально понял и раскрыл мне свои родственные объятия. К вечеру этого дня моя оплошность была исправлена. Успокоившись, в каком-то блаженном состоянии побрёл я на реку. Чувство небывалой полноты охватило меня, благодарность судьбе за все её проделки. Всё существующее прекрасно! Не проспи я поезд – каким бы бедняком я мчался теперь в столицу. Счастливцем, как Адам в раю, лежал я обнажённый на берегу Вороны, глядя на задумчивый дубовый лес, на это ласковое, по-осеннему зеленоватое небо.
Когда эта самая судьба привела меня на Арбат, 51 в женское общежитие первого М. Г., где я встретил Катю, я восторжённо писал на родину в Борисоглебск о своём чувстве. Михаил Алексеевич прислал мне солидное письмо с почерком, по которому можно было учиться чистописанию: «Петя, женщина – существо слабое, беззащитное. Оно…» – и так далее в этом роде. Я немного позабавился чеховской, юмористической форме определения женщины, но в глубине души был с ним согласен и бесконечно благодарен своему корреспонденту.
Позже, устроившись с Катей в своей квартире, мы встречали Михаила Алексеевича, приезжавшего в Москву со своим отчётом в министерство, не один раз. Заявлялся он, громоздкий, привычно добрый, извлекались родительские пышки, отечественный гусь, оплывший жиром. Вечерами мы все трое собирались под зелёным абажуром в кухоньке у плиты. Из жаровни извлекался противень с очаровательным землячком в окружении гречневой каши и картофеля. В эти вечера мы засиживались за полночь, играя в карты, беседуя о днях былых и даже устраивая концерты.
Михаил Алексеевич любил игру в карты, преимущественно в «шесть листов» или в «подкидные», как говорил он. Карты были для него не отдыхом, как для большинства, а напряжённой работой внимания и больших волнений, особенно в тех случаях, если партнёром оказывался шутник вроде меня. Тогда, насытившись игрой, мне удавалось ловко рассовывать карты по карманам. Он, обнаружив эти проделки, сердился, огорчался и ворчал: «Родимец тебя забери…» или «Греха сколько!» За игрой он знал все карты партнёра и противников. Выпутывался из самых трудных обстоятельств, но играл всегда честно.
Однажды в его приезд к нам мой ученик прислал пригласительный билет на два лица: был просмотр нового фильма в Доме писателей на улице Воровского. Против воли увлёк Михаила Алексеевича на этот вечер. Он только что купил новые галоши в Мосторге, и мы всю дорогу говорим с ним об этой удаче, любуясь его галошами. В раздевалке, к великому его огорчению, эти галоши спёрли. Чувствуя всю неуместность охватившего меня веселья, я впадаю в форменную истерику, хохочу как безумный.
В другой приезд к нам Михаила Алексеевича Катя достаёт нам билеты на «Интервенцию» в театр имени Вахтангова. Я снова соблазняю его: «Живём-то рядом». Постановка ему не понравилась так, что он порывался уйти в середине действия. Отныне само слов «интервенция» стало у него ругательным. Пьеса эта с преобладанием крикливых лозунгов, обилием кумача не могла его удовлетворить.
– Орут истошным голосом, – говорил он. – «Интервенция!», прости господи, греха сколько.
Дни и ночи сидел Михаил Алексеевич со своими отчётами и докладными записками. Он как-то привёз из Борисоглебска маленькие отцовы счёты, они до сих пор хранятся у нас. В случайной карикатуре я так и изобразил его в облаках дыма с блестящей лысиной, сидящим за столом как бог Савоаф со счётами вместо скрижалей. Папиросы всех сортов, табак, махорка, окурки окружают его. При проводах я в виде шутки прятал во все карманы его пиджака и бумажник записки, приготовленные заранее. Дома, встретив «столичного муженька», читают: «Дорогой папашка! Не забывай своего тигрёнка» или «Славно мы с тобой дербалызнули, плакали казённые денежки!» Я сочинил шуточную поэму, посвящённую Михаилу Алексеевичу, она начиналась словами: «Джамбул степей борисоглебских, пою на счётах сладкозвучных, что дважды два не будет пять…» В моём шуточном историческом очерке я живописую Михаила Алексеевича таким образом: «Шествие замыкалось громоздкой, совершенно квадратной фигурой рыцаря в скромных доспехах. Плащ из чёртовой кожи и пенковая трубка, которой он немилосердно отравлял воздух, самому жадному взору создавала непроницаемую завесу. Невидимые в этом чаду рубцы и шрамы, солидный нос (по-русски картошкой) и развитые челюсти, свидетельствуя о былых схватках в турнирах и пирах, придавали этой фигуре ореол уверенности и чрезмерного покоя». Все эти вещи развлекали его, он никогда не обижался. Сам же он, вспоминая старину, любил рассказывать одну и ту же историю, которая со временем превратилась в несложную биографию, включив в себя всё яркое, чем одарила его молодость. «Вот когда я служил в мастерских на железной дороге», – так обычно неторопливо начинал Михаил Алексеевич, раскуривая свою папиросу или свёртывая из газеты козью ножку. Перед усыплённым слушателем проходит картина за картиной: городское училище, рыбная ловля, мать-покойница, наконец, он подходит к самому значительному пункту повествования – какой был завтрак в мастерской за медный пятак «в то золотое время». Заключительная глава о паровозной детали, которую подменяют ему товарищи, чтобы пропить, снова приводит его в волнение.
Михаил Алексеевич был страстный рыбак, преимущественно на хлыста. Засучив брюки по колено, а чаще совсем без штанов он мог стоять в воде целыми днями.
Михаил Алексеевич был семьянин, сестру мою звал в шутку Раидия. Будучи лет на десять старше её, он быстро терял молодость. Последние годы его были омрачены какими-то неясными нам издалека интимными осложнениями в семье. Война с её тревогами о детях, годы непрерывных забот, голод, бессонные ночи честного труда и, наконец, инвалидность, и вот совсем недавняя смерть.
Нам, не видевшим его в последние годы, трудно представить себе его больным, немощным. Всё кажется сидит он в облаках фимиама табачных плантаций всего мира, заваленный бухгалтерскими книгами, отчётами, щёлкая рукой на счётах, очки сдвинуты на обширный лоб, откуда-то сверху неясным бормотанием шлёт ему свои заклинания периферийное радио, и ему сладко дремлется. «Родимец тебя забери, – шепчет он, пробуждаясь, прислушиваясь. – Греха сколько!» И с новой папиросой во рту принимается за прерванную работу.
А во дворе за окном по-прежнему пышно цветут клумбы георгинов, взращённые любовной рукой этого скромного труженика от бухгалтерии. В наши дни, насыщенные мелким эгоизмом и грубостью, особенно чувствительна утрата этого чистого доброго сердца.