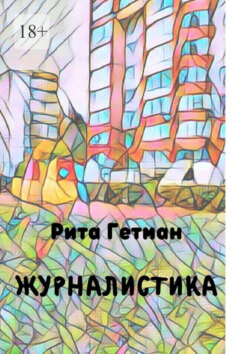Читать книгу Журналистика - Рита Гетман - Страница 8
«Я не хочу умирать за свободу, я хочу за неё прожить»/Большое злое животное
Оглавление*Рассказ написан в технике «исторической имитации»: на основе реальных исторических событий, автором создается искусственная ситуация, повествование ведется в документальном стиле так, как будто бы этот вымысел когда-то происходил. Этот эффект должен вызывать у читателя чувство достоверности. Все описанные события вымышлены, имеют к реальности опосредованное отношение. Совпадения не предусмотрены.
«К темноте глаза быстро привыкают, и я начинаю видеть очертания предметов. Их здесь не так много – в основном, голые плохо оштукатуренные стены, бледные, как моя кожа. Я плохо сплю. Если удается заснуть, то ненадолго я проваливаюсь в тяжелые томительные сновидения, где все плохо и страшно, почти так же, как в моей нынешней жизни. Потом резко вскакиваю: надо мной стоит темная фигура – надзиратель, задача которого следить, чтобы я никуда не сбежал. На самом деле он здесь, чтоб мучить меня. Их цель простая – заставить меня самого поверить в то, что я опасный преступник и преступление мое почти сакральное и о нем нельзя говорить вслух. Они ждут, когда чаша терпения переполнится, и я не смогу сдержать гнев и отчаяние. Они, наверное, думают, что я наброшусь с кулаками на надзирателя или оскорблю его? Тогда они получат „законное“ право усилить контроль и угнетение, чтоб растоптать меня как личность окончательно. Но я должен держаться. Да, они могут следить за мной 24 часа в сутки, они могут будить меня посреди ночи, морить голодом, держать в изоляции, оскорблять, не оказывать своевременную медицинскую помощь, вводить какие-то новые абсурдные запреты, находить совершенно незначительные причины для давления, но самого главного они не отнимут – свободы внутри меня. Я не хочу умирать за свободу, становясь мучеником, о котором потом напишут в учебниках истории; я хочу за свободу прожить. И еще одно: я знаю, что остался чистым человеком и оттого моя совесть спокойна. Я говорю себе: мои мучители знают, что они не правы, знают, но не могут признаться себе в этом и даже допустить саму возможность собственной неправоты и глупости. Им бы как-нибудь выгородить себя, а проще всего это сделать, втоптав в грязь „идеологического врага“. Мне пришлось сделать непростой выбор, но я уверен, что поступил правильно, и эта уверенность стала моей броней. Бросают камни и комья грязи, но они отскакивают. Я верю: история на моей стороне. Когда-нибудь все наши мысли, слова и письма станут громким свидетельством, они будут кричать за нас, и виновные уже не спрячутся от правды, они предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание. Быть может, я этого уже не увижу. Быть может, я не доживу до дня своего освобождения. Скорее всего, они сделают все, чтобы я больше никогда не вышел отсюда. Но, повторю еще раз – я не жалею о своем выборе. Конечно, мне бы не хотелось проходить через все это, и да, я, как и все вы, мечтаю о нормальной хорошей жизни. Я пытаюсь наделить особым смыслом выпавшие на мою долю испытания, я говорю себе, что после стану сильнее и решительнее, но это ведь слабое оправдание. Иногда становится просто невыносимо, иногда мне кажется, что все это происходит не со мной, а с моим двойником, меня и нет сейчас вовсе, я куда-то пропал. Это вроде защитной реакции на несправедливость, боль и страх. Повторяю самому себе, напоминаю постоянно: я свободный и чистый человек, я здоров, а они – больные. И вы тоже, пожалуйста, всегда оставайтесь свободными и кристально-чистыми. Понимаю, эти слова звучат слишком высокопарно, но пусть у нас будет смысл и направление – наше оружие против злодеев. Свобода – это сопротивление. Сопротивление – это свобода».
От редакции
Диктатура в стране пала десять лет назад. Какое-то время все общество было парализовано, потом начался странный и бурный период: фактически социальная и политическая революция, новые надежды и первые серьезные успехи демократически избранного правительства. Мы хорошо помним свои ощущения тогда – эйфория, умноженная на тревогу. Но в основном нам было некогда. Мы были слишком заняты строительством новой системы в наконец-то свободной стране. Однако сейчас настал важный момент – подошло время для рефлексии, но не о том, что творилось в годы диктатуры с государственной точки зрения. Мы хотим понять, как мы жили и о чем думали, какие оправдания находили для своего бездействия, и почему так вышло, что диктаторское правительство продержалось несколько десятилетий. Есть ли в этом наша коллективная вина, и какую ответственность несут граждане, лишенные права участвовать в политической жизни страны?
Наша редакция готовит большой материал, где планирует собрать личные свидетельства и воспоминания о последних годах диктатуры. Мы не хотим давать правовую оценку тому периоду истории нашей страны: и так известно, что все действия диктаторского правительства были нелегитимными и неправомерными. Два года назад свою работу начала Комиссия памяти и примирения. Действия Комиссии вызвали критику со стороны различных общественных сил и активистов, прежде всего потому, что она не выполняет свою прямую функцию, заявленную в названии – сохранить память о прошлом и примирить враждующие стороны. Вместо того чтобы стать площадкой для подлинного диалога и поиска истины, Комиссия пошла по пути наименьшего сопротивления, объявив всеобщую «амнистию памяти». Что подразумевалось под этим? Только одно: преступники не будут наказаны, а их жертвы не получат компенсаций. Как говорилось в официальном коммюнике, «подобная поляризация нашего общества может привести к политической розни и обострению социального конфликта, и потому является неприемлемой. Мы должны двигаться вперед и с уверенностью смотреть в будущее, осознавая, что нельзя постоянно возвращаться к прошлому. Если мы каждый раз примемся бередить рану, разве она заживет? Попутно мы рискуем занести сюда инфекцию и получить серьезные осложнения. Точно также и с памятью: она должна быть источником нашей силы, но никак не полем для конфронтации. Потому мы призываем всех ради нашего общего блага принять как должное факт – мы все в одной лодке, у каждого из нас за плечами своя травма, своя история и боль, но в наших силах поменять видение ситуации. Мы извлекли все уроки из исторического опыта нашей страны, мы их усвоили».
Мы понимаем, о чем говорят представители новой политической элиты. Конечно, они меньше всех заинтересованы в «активном копошении прошлого»: ведь многие из них так или иначе связаны с прежней государственной системой. Разумеется, все одиозные личности отстранены или наказаны, но так называемые средние и мелкие функционеры с определенным опытом управления пришли к власти. Это не устраивало оппозицию и радикальную молодежь, которая требовала подлинной революции и не хотела, чтобы «бывшие» каким-либо образом оказались причастны к политике. Тем не менее, вчерашние оппозиционеры и лидеры политически активных групп не имели нужных знаний и навыков для управления государством. Объяснение достаточно простое: оппозиция была разгромлена и разрознена, а её лидеры – наиболее амбициозные, смелые и опытные – сидели в тюрьмах либо были казнены. Выжили те, кто, так или иначе, работал на систему. То что именно эти люди оказались в правительстве и возглавили партию Движения за реформы, – являлось серьезным компромиссом, на который общество готово было пойти и который пришлось принять.
Но времена изменились.
Этот проект стал важным опытом коллективной рефлексии, попыткой зафиксировать состояние умов и настроения, о которых люди, заставшие предыдущий режим, скоро начнут забывать. Нас удивило, сколько людей разных возрастов, профессий и социальных статусов откликнулись на нашу просьбу: рассказать о том, чем они занимались в тот период, о чем думали, чего боялись или против чего боролись, как относились к режиму и как находили (если находили) оправдания существующему порядку. Мы можем разделить все общество на три условные группы: пострадавшие от режима (диссиденты), те, кто работал на систему и так называемые «обыватели», которые старались не вникать в сложные вопросы и просто жить.
В свою очередь, внутри этих групп тоже возможно дробление: диссиденты, которые воевали против всех и несогласные с политикой государства; люди, согласные с системой, идеологически ей верные и те, кто хоть и получал зарплату из государственного бюджета, но внутренне сопротивлялся; наконец, обыватели, ко всему равнодушные и занятые собственным выживанием или такие, кто живо интересовался «политикой», но закрывал глаза на происходящее в стране.
Нужно понимать, что жизнь плохо вписывается в строго очерченные рамки и категории, и даже если люди сами пытаются втиснуть себя в них, это вовсе не означает, что они являются рабочим инструментом и строго описывают реальность. Скорее, большинство столкнулись с компромиссами, всякого рода этическими нюансами и внутренними конфликтами.
Мы начали этот текст с отрывка из письма человека, имя которого однажды прогремело на всю страну. Создатель единственной независимой политической партии, которого государство преследовало исключительно по идейным мотивам. Как и многих других. Его история очень показательна: молодой, талантливый и смелый человек, направивший свои усилия на то, чтобы как-то улучшить жизнь в этой стране. Но его перемолола в труху репрессивная государственная машина, которой, в сущности, было все равно, кого пускать в расход. Этот человек умер в тюрьме, а сейчас государство приносит извинения его родственникам, не признаваясь, впрочем, в конкретных преступлениях. Данный факт отражает важную тенденцию: и новая власть, и люди ждут искупления и прощения. Письма, которые мы получили, все полны раскаяния, так или иначе. Но не за конкретные преступления – подчеркнем это еще раз. Без конкретики нет ответственности. Мы полагаем, что прежде чем ждать метафизического отпущения грехов, люди должны взять ответственность за свои поступки и попробовать оценить их с точки зрения истории. В этом плане хорошо помогает один простой вопрос: когда мои дети спросят меня, чем я занимался в годы диктатуры и царства зла, что я им отвечу?
От главного редактора
В одном из писем я обнаружил такую фразу: «Прошлое – это одно большое животное, которое, если мы его не приручим, нас съест». Афоризм занятный и его смысл ясен и вроде бы не подлежит обсуждению. Действительно: прошлое – дикий неведомый зверь, который охотится на нас, несчастных людей настоящего, и которого мы потому должны иногда задабривать – кормить или приносить ему жертвы, но в то же время стараться как-то одомашнить и сделать ручным. Моделированием такого ручного прошлого занимается политика памяти, задача которой присвоить прошлое себе и по возможно отстранить личный опыт тех, кто жил в ту эпоху, от событий минувших дней. И в этом кроется серьезная проблема.
Если мы считаем прошлое диким зверем, который пытается нас сожрать, то снимаем с себя всякую ответственность: а что мы можем сделать против существа, ведомого инстинктами, появившегося откуда-то из диких джунглей коллективной памяти? Наш взгляд поменяется, когда мы наконец-то поймем: нет никакого большого животного, которое всех нас съест; существуют лишь поступки людей, их решения, их мысли. То, что они делали, и чего они не делали, и то, что они говорили или о чем молчали и даже боялись подумать. Вот что такое прошлое.
Прошлое – это все мы, и мы – одно большое животное, которое невозможно приручить и которое поедает само себя.