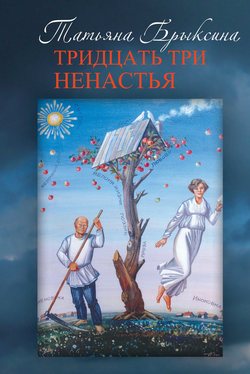Читать книгу Тридцать три ненастья - Татьяна Брыксина - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Очевидное-невероятное, или На краю света
У Корнеевых
ОглавлениеГ оворят, что каждому человеку надо хоть изредка разговаривать с самим собой. Я пробовала – получается плохо. Задаю себе неудобный вопрос – и пытаюсь увильнуть от ответа. Зачем, мол, терзать себя, если и так всё понятно? Это во-первых. А во-вторых: что можно изменить в судьбе, в любви, в отношении к тебе заведомо предвзятых людей? И в-третьих: изменить жизнь можно лишь ценой определённых компромиссов. Но! Смей – и ты человек! Женщина любит не потому, что холодным рассудком выбрала правильного мужчину, а потому, что до слёз стало жалко именно этого, своего. Я любила и люблю данных мне жизнью людей, не думая, лучшие ли они на свете; просто они мои – такие, какие есть. Крёстная упрекала иногда, что я трудный человек, хоть и открытый. Спрашиваю: «В чём моя трудность?» – «Не умеешь жить, как все. Не умеешь молчать себе на пользу. Не умеешь уступать дуракам. Всё берёшь на душу, и тянешь, тянешь за собой, потом плачешь. А ты плюнь и разотри!» – звучало в ответ. Но кто знает, как правильно? Как плюнуть и растереть, если с тобой поступают неправильно? Слюны не хватит! Но есть же сила слова, есть и его правота. Считаю: говори и тебя услышат.
В Волжском Василий начал капризничать, упрекать, что принуждаю его лететь в этот чёртов Владивосток. А командировочные уже получены, билеты куплены, вещи собраны. Обидно до слёз: опять я во всём виновата! И дёрнуло же меня сказать, что если бы не я, сидел бы он всё лето в Клеймёновке! Строгий разговор с самой собой облегчения не принёс. Теперь придётся принимать все его условия: бутылка в дорогу – раз, московская ночёвка не у моих сестёр, а у его друга Артура Корнеева – два, поедет он не в серых, а в белых штанах, они легче – три, и т. д. Какие глупости!
– Белые штаны ты уделаешь ещё в поезде… – пыталась я образумить упрямца.
– Ты хочешь, чтобы я сопрел в серых брюках?
– Ладно, ладно, надевай белые!
Перед железнодорожным вокзалом Василий спросил:
– Ты бутылку взяла в дорогу?
– Ой! Забыла…
– Тогда я никуда не поеду! – бросил сумки, развернулся и пошёл.
Я зарыдала в голос.
Проходивший мимо мужчина окликнул скандалиста:
– Молодой человек, вы что творите? Разве можно так поступать с женщиной?
Слава богу, до отправления поезда ещё оставалось время, и он успел сбегать в ближайший гастроном за бутылкой коньяка. В привокзальном киоске прикупил ещё газет и огоньковскую книжку-брошюрку Межирова со странным для поэтического сборника названием «Бормотуха».
Ехали в СВ – командировочные деньги позволяли такую роскошь, почему бы не воспользоваться? Сели, а я никак не могу отойти от пережитого стресса, трясусь, как в лихорадке. Макеев же, выставив бутылку на столик, вновь засиял голубыми глазами, словно бы ничего и не произошло. Выпив рюмку-другую, принялся рассказывать, как они с Фёдором Григорьевичем Суховым путешествовали по Белоруссии.
– Ты же знаешь, он там воевал… Всю жизнь мечтал пройти пешком по своим военным дорогам. Не проехать, а именно пройти!
– Давай лучше о нас с тобой поговорим. Зачем ты так поступаешь? У меня дня без слёз не проходит. Чуть не по тебе – ты в истерику!
– Ладно-ладно-ладно! Не начинай! А то я по-серьёзному разозлюсь… Так вот, слушай, как мы путешествовали. Я окончил школу, готовился поступать в Литинститут, и тут пришло письмо от Сухова: «Вася, приглашаю тебя пройтись со мной по местам, где я воевал в Белоруссии! Если согласен – плыви ко мне на теплоходе до Лысково. От Лысково на автобусе до Красного Осёлка…»
Ну, я и подхватился. Родители дали какие-то денежки. Первый раз на теплоходе! Представляешь? Волга шлёпает о борт! Берега плывут! Фёдору Григорьевичу тогда было сорок четыре года, а мне восемнадцать. Он известный поэт, уважаемый… Но и я уже с первой книжкой, с маленькой, но славой. Мы были близки нашими стихами, одинаково их понимали, потому и сдружились. Доплыл до Лысково, добрался до Осёлка… Жил он тогда с матерью и отцом – бедно, конечно. Помню пустые щи из щавеля да картошку на столе. Его двоюродный брат имел корову, приносил молоко. В моей семье питались получше. Но богатеев в колхозном крестьянстве отродясь не водилось! Я не роптал. А худющий, как плеть, Сухов и вообще обходился малым.
Все свои деньги я сразу же отдал Фёдору Григорьевичу, и мы двинулись. Доехали до Москвы, на Белорусском вокзале сделали пересадку. Не знаю, как он определял маршрут, но распорядился сходить в Речице. Для меня всё было впервой, всё интересно. Только есть сильно хотелось. Сухов об этом просто забывал, приходилось напоминать.
Речица считалась то ли маленьким городком, то ли большим селом. Чистота кругом – не российская! Меня это удивило. Первый раз за всю дорогу хорошо поели в столовой. Сухов взял мне к обеду 150 граммов водки; сам он не пил ничего, больной желудок не позволял…
– Вась, ну как он мог тебя, мальчишку, водкой подпаивать?
– А так! Я же молодой был, здоровый. Водка меня не брала. И кто в казачестве не пьёт?
– Отец же твой мало пил. В кого ты такой?
– В деда Алёшку. Певун был и гуляка! Отец тоже не отказывался, но дюже не увлекался. Ладно, слушай дальше.
И вот мы пошли, пешком. Вроде как наобум. Но Сухов точно вёл, как будто помнил дорогу. С войны-то уже больше двадцати лет прошло! Легко двинулись, без опаски. То по асфальту, то по грунтовке, полями, перелесками. Попадались деревеньки – очень бедные. У дворов сидели белорусские женщины – босые, в белых платочках, сухие какие-то и молчаливые. Заговоришь с ними, а они не сразу и отвечают, смотрят пристально. Иногда мы просились на ночлег. Узнав, что Сухов здесь воевал, белорусы предлагали не только кров, но и еду – простую, но довольно вкусную, в основном из картошки. Некоторые вели показывать старые окопы, уже заросшие травой. Их тревожный смысл будоражил суховскую душу. Он подолгу стоял, прикидывал, не его ли это окоп. И блиндажи попадались – обвалившиеся, с торчащими полугнилыми брёвнами.
В сёлах побогаче мы заходили в столовую, отдыхали. Фёдор Григорьевич обязательно брал мне 150 граммов. Еда везде была очень вкусная. И чисто. Мы и в стогах ночевали, в сараюшках заброшенных. Однажды нас приняли за шпионов: окружили, привели в сельсовет. Не сразу поверили, что мы мирные писатели. Пришлось даже через Могилёв дозваниваться до Москвы, в Союз писателей. Там подтвердили писательский статус Сухова, и нас отпустили. Смех и грех!
– Ты испугался?
– Поволновался, конечно. Думаю, вдруг посадят в каталажку, а мне в Литинститут поступать!
– А Сухов?
– Да чего ему! Захлопал глазками, заокал: «Товарищи, товарищи, мы не шпионы, мы писатели. Я здесь воевал. Веду молодого друга по фронтовым местам». Всё разрешилось, слава богу! Слушай дальше. Сейчас будет самое интересное.
…Стучимся в один дом – попросить воды. Дверь открывает здоровенный детина и чуть ли не с испугом смотрит на Сухова. Минуту смотрит, другую… А потом осторожно так, как в холодную воду входит, спрашивает: «Товарищ лейтенант?»
Оказалось – суховский однополчанин, работает в колхозе бригадиром. Фёдор Григорьевич не сразу его вспомнил, а тот причитает сквозь слёзы: «Мой лейтенант! Мой лейтенант!» У меня аж мурашки по коже. И завертелось! Хозяин накрыл стол, накормил драниками с густой сметаной. В ту ночь мы первый раз спали по-господски – не в сене, не на полу, как в других местах.
– Вась, ты из этого путешествия стихи-то привёз?
– Сочинял немного. А Сухов писал постоянно. Сядем под копну, он достаёт блокнотик, пишет… Из каждого населённого пункта, где была почта, отправлял Агашиной письма со стихами и цветочками. Он был влюблён в неё – это точно! Она на любовь не ответила, но воскликнула однажды в стихах: «…я жалею, что не тебя мне выпало любить!»
Путешествие затянулось, я уже начал беспокоиться, что опоздаю на вступительные экзамены в Литинститут. Сухов отвечал: «Ничего, Вася, ничего – успеем! За творческий конкурс не беспокойся, а к экзаменам доберёмся до Москвы».
Но мы опоздали. Абитуриенты сдали первым экзаменом историю. Но Фёдор Григорьевич не растерялся, проявил редкую для себя сноровку. Добыл адрес подмосковной дачи члена приёмной комиссии Архипова и повёз меня к нему. На всякий случай взяли с собой какой-то выпивки. Я весь вечер читал стихи, старался изо всех сил. В итоге историю мне зачли. Остальные экзамены сдавал вместе со всеми.
– Как же ты поехал в Москву без вещей и денег? Где были документы?
– Документы с собой. А деньги Сухов получил в Литфонде, все отдал мне. Такая вот история! Ну, давай по рюмочке.
…Ехать к Корнеевым мне не хотелось, но куда было деваться? Василий заранее созвонился с Артуром, и нас ждали. С Казанского вокзала, отбивая огромным чемоданом ноги в подземных переходах метро, доехали до Новослободской, далее – до Центрального дома армии, рядом с которым проживали Корнеевы.
Ирина, жена Артура, не преминула заметить с порога, что мы с Василием внешне не подходим друг другу:
– Это же Богу противно, чтобы жена была на полголовы выше мужа!
Василия это покоробило. В первые годы он болезненно реагировал на подобные выпады, машинально отстранялся от меня при чужих людях. Я страдала.
Артур постарался сгладить ситуацию:
– Ничего, ничего! Под одеялом не видно, кто выше, кто ниже.
Обеденный стол Ирина накрыла странным образом: сыну Мите пожарила мясо, нам с Василием поставила сосиски с гарниром, а Артуру собрала в тарелку остатки прошлых трапез. И потекли разговоры. Остановить Артура было невозможно; мы едва успевали вставить слово. Ирина дерзко осаживала мужа, демонстрировала высокомерное пренебрежение к нему, мол, помолчи, дурак! Когда закончилась выпивка, Ира кликнула сына:
– Митя, ты не продашь нам бутылку водки?
Из соседней комнаты раздался Митин голос:
– Продам, но дороже!
Я офонарела: ничего себе нравы! – и полезла в кошелёк. Сын Корнеевых учился во 2-м Медицинском институте и подрабатывал, как выяснилось, на гостях своих родителей.
Когда Артур предложил погулять по окрестностям с заходом в ЦДА, я откровенно обрадовалась.
– Там у меня друг служит, генерал! – сообщил Артур.
Генерал налил всем по рюмочке, угостил прекрасным кофе.
Ранним утром нам предстояло вылетать в Хабаровск, но была необходимость заехать в общежитие на Добролюбова, забрать некоторые вещи.
– Здесь совсем недалеко, если ехать окольными трамваями, – сказал Артур. – Но без меня вы заплутаете. Я поеду с вами.
Вечером опять долгое, говорливое застолье. Уже сил нет, и спать хочется, и Василий захмелел сверх меры, а Артуру всё хочется поговорить. Наконец заказали на утро такси, стали укладываться. Корнеев протянул Василию свою новую книжку:
– Почитаешь в самолёте.
Тут следует сказать, что Артур Александрович Корнеев служил помощником председателя Госкомиздата России Свиридова, писал хорошие стихи. Но и карьерой своей, и квартирой был обязан жене. Она умудрилась перевезти семью из посёлка Железнодорожного практически в центр Москвы, устроила Артура, устроилась сама в международный отдел правления Союза писателей России – очень даже тёпленькое место!
Когда-то они жили в Волгограде. Артур даже литстудию вёл в нашем Союзе писателей. Отучившись в Литинституте, Макеев вернулся в Волгоград, принял у Артура студию, жил у них до получения своей квартиры. Артур любил его по-настоящему, с заботой. Может, из чувства некоторой ревности Ирина отнеслась ко мне придирчиво, с подколкой. Я не бзыкала – лишь бы они любили Васю!
Была совсем ещё чёрная рань, когда пришло такси. Мы попрощались и улетели в неизвестность.