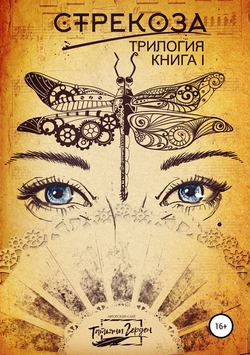Читать книгу Стрекоза. Книга первая - Татьяна Герден - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Книга первая. Чернихин: в плену у треф и струн
Часть первая
10
ОглавлениеПосле смерти Берты Штейнгауз почувствовал себя осиротевшим, покинутым, брошенным. Он никогда не задумывался, насколько, оказывается, Берта заполняла его жизнь, помимо учительства и других важных занятий. Сначала он думал, что тоска – это то чувство пустоты, которое наступает после потери человека, который всё время находился рядом, и общение с ним воспринималось как данность, как часть себя самого, поэтому когда эта самая часть вдруг исчезает, ему становится плохо, так как человек опять пытается стать целым. И ещё он думал, что тоска – это просто естественная реакция на резкое отсутствие многолетней привычки, которую не сам человек бросает, а её у него отнимают силой, не спросив, и потому так больно. То есть истинная причина тоски – это порождение обыкновенного эгоизма, болезненный переход к выживанию в экстремальных условиях, и что со временем происходит адаптация, пустота заполняется и создаются новые привычки, и вместе с ними – новое целое.
Но время шло, а он так же тосковал о Берте, как и раньше, и с каждым годом его тоска не то что не уменьшалась, а только росла. Она висела над ним большим чёрным облаком, тяжёлым, роковым, не желающим пролиться ни всхлипываниями, ни беседами с окружающими о неизвестно где блуждающем духе Берты, ни прагматизмом быта дня прошедшего и дня настоящего, ни жалобами и ни протестами разума против зависшей чёрной тени. Через пару лет он вдруг понял, что это была никакая ни тоска, а самая настоящая любовь. Это о ней и ради неё слагают стансы и идут на плаху. Нет, романтиком он никогда не был и всегда чурался выспренности и словоблудия, и даже когда ухаживал полгода за Бертой, он не называл своё увлечение – увлечением. Ему просто было скучно с другими женщинами, а в ней многое нравилось, нет, не то – не нравилось, а удивляло и потому восхищало.
Во-первых, она была экзотичная. Трудно было предугадать её настроение, особенно поначалу. Её мнение всегда отличалось от того, что сам Витольд сказал бы или подумал по поводу услышанного или прочитанного. Но если противоположное мнение других его обычно раздражало, то Бертино – почему-то нет. И это было странно, но приятно.
Во-вторых, у нее было чувство стиля, и она всегда пыталась приподняться над бытом. Отсюда чуть манерная речь и пренебрежение хозяйственными делами, или, по крайней мере, презрение к ним как к чему-то побочному в жизни – казалось, что она знала наверное, что люди не приходят в этот мир только для того, чтобы есть, спать, мыть посуду и стирать, а для чего-то другого, возвышенного, ускользающего в грубых тенетах быта, поддайся они ему совершенно, и оттого прекрасного и печального, и заслуживающего сознательного к нему устремления.
Несмотря на преобладающий в её настроениях минор, ей удавалось передать это чувство загадки жизни Витольду, и это ему несомненно нравилось и приподнимало над бессмыслицей повседневной суеты. А без Берты его обычные занятия стали обыденной процедурой, работа – не полным потаённого смысла полётом мысли и отточенного разума, а просто способом зарабатывать деньги, чтение книг – не попыткой интерпретировать чужие образы и слова, а потом увлечённо делиться с женой своими находками, сравнивая её мнение со своим, а просто считыванием информации, и даже приём пищи в одиночестве стал не более чем он на самом деле был – скучным, механическим процессом пережёвывания продуктов питания для того, чтобы выжить, а не ещё одним поводом обменяться нюансами вкуса, удивления или удовольствия от какого-нибудь блюда.
В-третьих, он, оказывается, любил её голос. Её голос сразу появился в его памяти как часть музыкальной гармонии, и постепенно интонации этого голоса стали таким же привычным фоном его комфортного состояния, как и собственное отражение в зеркале во время бритья. Ви-ито-льд, звала его Берта, когда хотела что-то сообщить или попросить, и это был зов, на который надо было обязательно откликнуться и выполнить требуемое, чтобы понять, что день был прожит не зря. Ви-ито-ольд: в пойманных в сети трех согласных – мягкого «в» и твёрдых «т» и «д»– играли нотки «и» и «о», нотки просьбы, приказа и уже заранее прочувствованной и выражаемой благодарности. На душе сначала было тревожно, затем появлялось чувство важности сказанного и ответственности, а потом становилось хорошо оттого, что задание выполнено: все говорило о том, что он нужен, без него не могут, на него полагаются. Секрет Бертиной власти над ним был в том, что она давала ему почувствовать себя сильнее, умнее, увереннее – в общем, настоящим рыцарем, воином и победителем. А это может не каждая женщина. И поэтому он ее любил – потому что больше всего любил самого себя, а она развивала и подогревала это глубинное, почему-то считаемое всеми постыдным, великолепное чувство состоятельности своего «я». Возможно, парадоксальная суть любви как раз и заключалась в том, чтобы через любимого человека научиться ценить и любить себя?
Ещё было приятно, что он почти никогда её не ревновал и редко опускался до мелочных выяснений отношений. Он замечал, что не только его, Штейнгауза, Бертин голос мог властно призвать к верному служению, а многих других – коллег по его работе, её учеников, которым она давала уроки музыки на дому, аптекарей, библиотекарей, таксистов, почтальонов, гардеробщиков в театре, и даже по лицу непроницаемого доктора Фантомова иногда пробегала еле заметная волна желания подчиниться или угодить ей. К счастью, Берта пользовалась своим властным, чуть металлическим «зовом» только в пределах бытовой надобности, и повода злиться на неё у Витольда не было. Наоборот, когда очередной кавалер услужливо пододвигал ей стул или подносил пальто после спектакля в то время как сам Витольд где-нибудь замешкивался, ему было приятно осознавать, что его жену ценят и оказывают ей почтительное внимание, но принадлежала-то она не им, а ему. Тем не менее существовал один персонаж, при упоминании о котором Витольд морщился как от физической боли, как если бы он провёл ладонью о гвоздь и оцарапался до крови. Это, конечно, был Бертин бывший друг, знаток женщин и лошадей, «тапёр» кинотеатра «Гаврош» Жора Периманов. Его уникальность была в том, что он был единственный, кто сумел подчинить Берту себе, а не наоборот, как было со всеми остальными, и Штейнгауз ломал себе голову, как такой пустой и никчёмный человек, практически без образования и особых внешних данных (Берта хранила выцветшую фотографию своего друга на столике у кровати) сумел заставить гордую и холодную Берту повторять без устали его пассажи, сомнительные шутки и хлёсткие выражения. Хотя Витольд находил их остроумными, но не настолько, чтобы их цитировали, и кто – такая рафинированная дама, как его Берта. А поди ж ты!
В начале первых лет их брака она цитировала Периманова практически постоянно, что часто звучало грубо и пошло, но она почему-то не замечала пошлости этих фраз. Например, когда Витольд должен был что-то принести и спрашивал, срочно это или может подождать, она ничего не объясняла, а говорила: «Срочно, дорогой, аллюр три креста!» Да, это звучало по-армейски, что в принципе, должно было бы ему нравиться, но в её устах звучало глупо и грубо, и ей совсем не шло. Он обижался и просил объясниться, а она простодушно упоминала имя Периманова, и оттого Витольд ещё больше злился.
По тематике цитаты из Периманова подразделялись на две пространные категории: те, что относились к лошадям и скачкам, и те, что имели прямое отношение к приёму крепких напитков. Когда, например, Берта скучала, она со вздохом произносила: «И вечер плыл осадком от портвейна», и, поёживаясь, закутывалась в свою шаль. Когда же смотрели кинокартину, где герой подводил героиню, Берта могла укоризненно пробормотать: «Как не попасть впросак, поставив на Шалота?» Витольд спрашивал, кто такой Шалот, и Берта говорила, что это был чубарый рысак, один из фаворитов Периманова на бегах, который, впрочем, часто его подводил, но Жорж, как и все игроки, был упрям, сумасброден, сентиментален и верен Шалоту, из-за чего страшно проигрывался.
Тень Периманова следовала за Бертой и Штейнгаузом и в быту. Если что-либо из одежды было чёрного цвета с коричневым отливом, она непременно называла это караковым, а если светло-серого цвета – такого, как любимый костюм Витольда, в котором он мог раствориться в массе педсостава училища и, оставаясь незамеченным, не слушать выступающих, а спокойно мечтать о чём-то своем на длинных, скучных собраниях, – неизменно называлось Бертой мышастым.
Единственное, что можно было ещё хоть как-то выносить «из Периманова», были рубаи Омара Хайяма, но и они раздражали Витольда из-за ссылки на тот же пресловутый первоисточник и повторяемость беспрестанных декламаций, например таких строк, которые Берта произносила на вечерах у Фантомова, если ей предлагали бокал вина:
Ах, сколько, сколько раз, вставая ото сна,
Я обещал, что впредь не буду пить вина…
Или если Витольд предлагал отобедать в ресторане, что нередко случалось до рождения дочери, шло неизменное:
Я утро каждое спешу скорей в кабак
В сопровождении товарищей-гуляк.
И уж полной дикостью было от неё иногда услышать что-то типа «как говорил Жора, не держи меня вертикально, я готов к подаче». Штейнгауз ужасался пошло-мещанской двусмысленности этой фразы, багровел, выходил из себя и в отчаянии восклицал:
– Как, как ты можешь повторять за ним эту пошлость?! Ну что он такое сделал для тебя, что ты никак не можешь его забыть?
На что Берта возводила на него свои чуть выпуклые карие с холодком очи и бесстрастно говорила:
– Наверное, то, что мне так и не удалось его приручить…
– А! – восклицал от бессилия Витольд, махал рукой и запирался в своём кабинете.
Ах, с каким бы наслаждением разрядил он целую обойму одного из своих кольтов в пустопорожнюю голову этого жуира, бездельника и подлеца Периманова, окажись он сейчас где-нибудь поблизости, но Периманов оказаться поблизости никак не мог, так как давно женился на дочери «миллионщика» Рите Крешневич и вскорости уехал за границу – то ли в Турцию, то ли во Францию, разумеется, по подложному паспорту и каким-нибудь подпольным коком на корабле, следующим из одесского порта в Стамбул.
Злые языки говорили, что там он таки бросил Риту ради чьей-то богатой дочки, когда в пух и прах проигрался на скачках, а потом ушёл и от неё, запил и почил в бозе в полной нищете, подметая улицы какого-нибудь Марселя или Авиньона, мечтательно бормоча себе под нос клички рысаков чаще, чем имена любимых женщин. Последнее обстоятельство удивительным образом всегда успокаивало нервы Штейнгауза, он приходил в себя, конфузился от собственного неразумного поведения, виновато обнимал хрупкие плечи Берты и горячо извинялся:
– Прости меня, я был не прав.
И даже не обижался, если она ему отвечала чем-то вроде:
Любовь, конечно, рай, но райский сад
Нередко ревность превращает в ад.
Ах, как же она была права: это всё была любовь, полнота переживаний и разнообразие ощущений, но по своей природе он не был приучен их выражать, и поэтому ему казалось, что любви, как это представляют в искусстве, вообще не бывает. Как же он был не прав!
Теперь, когда жены давно не было рядом, он вспоминал даже перимановские цитаты с каким-то новым, почти дружеским чувством, и потому решил не выбрасывать с её столика фотографию Жоржа, изображавшую вальяжного, лысоватого пианиста с наглой улыбкой и сигарой, небрежно прикушенной в уголке чуть кривого рта. Часто, проверив все работы курсантов и подготовившись к лекциям, маясь от никак не уходящей из сердца тоски, он садился в кресло, брал с Бертиного столика фотографию и внимательно вглядывался в хитрые щёлки глаз Периманова, пытаясь понять его тайну. А в уме, словно чтоб посмеяться над его стараниями, как будто по заказу, почему-то всё время крутились по кругу строчки Хайяма:
Много лет размышлял я над жизнью земной.
Непонятного нет для меня под луной.
Мне известно, что мне ничего неизвестно, —
Вот последний секрет из постигнутых мной.