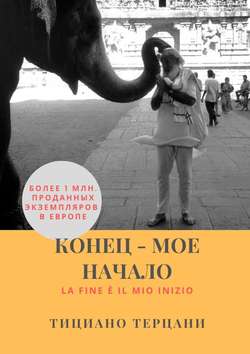Читать книгу Конец – мое начало - Тициано Терцани - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Юность
ОглавлениеМы сидим в тени большого клена перед домом в Орсинье. Возвышенность, где находится наш дом, крутым спуском переходит в равнину, по которой течет речка. По ту сторону реки начинает зеленеть лес. Весна. Дует свежий ветерок. Отец в фиолетовой шерстяной шапочке лежит на шезлонге, на ногах у него индийское покрывало.
Фолько: Ну, отправляемся. Тебе удобно? Подожди, посмотрим, работает ли диктофон.
Тициано: Слышно?
Фолько: Слышно. У тебя есть соображения, как мы будем продвигаться?
Тициано: Ммм… в общем и целом, да. Сначала я хотел бы рассказать о моем детстве. В детстве много всего, о чем никогда не было времени спокойно поговорить. Я хотел бы передать свои воспоминания о том, как жили люди, когда я был маленьким. Скорее, даже не тебе, а твоему сыну, потому что у него не будет ни малейшего представления о том, как росли люди моего поколения, какие у них были отношения, каким был мир вокруг нас.
Фолько: Что ж, начнем.
Тициано: Я родился в жилом квартале Флоренции за городской стеной. Родился я дома, что было обычным делом того времени. Конечно, я не помню, как родился я сам, но, когда я подрос, я в какой-то степени был свидетелем рождения моего двоюродного брата. Думаю, что, когда появился на свет я сам, все происходило подобным образом. Рождение ребенка было потрясающим действом. В дом приходили все родственницы. Моя мать, скорее всего, родила меня на ее же супружеском ложе, где она потом, собственно, и почила. С винных бутылей сдирали оплетку из соломы, после этого в них на паровой бане кипятилась вода из-под крана. В этой воде потом купали новорожденного. Все это делали женщины. По-моему, была еще повивальная бабка. Вот так я и родился – проще некуда.
Сразу же после рождения пришел мой дядя, который впоследствии не исчезал из моего детства. Он оказался в доме первым, протиснулся в дверь, разузнал, что и как, и объявил, что родился мальчик. Это был дядя Ваннетто, который в то время был фашистом – что само по себе было источником раздоров в семье, потому как мой отец был из левых.
Родился я в квартале, с которым связаны все мои детские воспоминания. Это был маленький, ограниченный мир. Там, где мы жили, в то время была глубокая периферия. Квартал представлял собой ряд домов вдоль дороги, по которой ходил трамвай. Поначалу трамвай тянули лошади. Кто-то из родственников даже работал чистильщиком рельсов. У моего отца был двоюродный брат, которого мы называли дядей, по сути, он был нам двоюродным дядей (у него также была фамилия Терцани, как и у нас). Так вот, он убирал конские яблоки, которые оставляли после себя лошади, тянувшие трамвай. И поскольку работал он в том числе зимой, он всегда носил куртку из плотного хлопка, которую выдавал муниципалитет. Эту куртку мне впоследствии посчастливилось унаследовать: я учился в высшей школе, и, поскольку отопления дома не было, именно благодаря этой куртке я мог заниматься за кухонным столом дома в холодное время.
Жили мы очень просто. В доме был маленький подъезд, а в нем лестница, по которой мы поднимались в нашу малюсенькую квартирку. Как говорили в то время, у нас была проходная гостиная. Это значило, что входивший внутрь сразу оказывался в гостиной. Еще у нас была кухонька, в которой мы ели, и спальня – в ней мы спали все втроем. Я спал на кровати рядом с ложем родителей, на котором и появился на свет.
Это был особенный, очень ограниченный, но хорошо знакомый мир. В доме, который я только что описал, все вещи были приобретены по случаю свадьбы в 1936 году. Не стоит забывать, что мои родители были бедными как церковные мыши. В свадебное путешествие они отправились в Прато, что всего в 15 километрах от дома, но для них это было большое путешествие. Это было и самым долгим их путешествием до тех пор, пока я не вырос и не пригласил их в Нью-Йорк, а потом и в Азию.
Дом был обставлен таким образом, как это было принято в те времена. Женились только с приданым. А приданое состояло из кровати, шкафа, где в абсолютном порядке хранилось имущество, (никогда не забуду запах лаванды и мыла, которые моя мать клала между простынями) и комода. Комод был для меня олицетворением радости и страдания одновременно. В конце каждого месяца мой отец приносил все заработанное (и поделенное с напарником) за этот месяц, и деньги отправлялись в комод, вглубь простыней. Никто не мог и подумать о счете в банке. Я помню, что каждый раз, когда месяц приближался к 15-му, 17-му, 20-му числу, начинались хождения – в моем случае тайные, в случае матери менее тайные – к этому комоду с проверкой остатков денег, спрятанных между простынями. Денег никогда не хватало: зачастую к концу месяца их не хватало даже на еду.
Все в этом мире было просто. В спальне были шкаф, комод и кровать. В гостиной стоял большой буфет – на самом деле замечательный – со стеклянными дверями и гравировками в стиле бидермейер или арт-нуво. В нем хранился «хороший», как было принято говорить, сервиз: фарфоровые тарелки и чашки Джинори2, которые мы брали только для особых случаев.
Жизнь подразделялась на будние и праздничные дни, что вам, молодым, трудно понять. Например, у меня был один костюм: короткие штаны, рубашка, курточка. Так вот, надевать его я мог только по воскресеньям. Для всех остальных дней была будничная одежда. И только в воскресенье, после купания… Да, купание происходило замечательным образом, это отдельная история. У нас была огромная оловянная бадья, в которой я, будучи героем нашей семьи, наиважнейшей личностью, купался в первую очередь. Воду грели на газу, выливали в бадью и намыливались. После меня мылась мать, и самым последним – отец.
Фолько: В той же воде?
Тициано: В той же самой. Потом мы, я и мать, одетые в воскресное, шли на службу. Мой отец держался от церкви подальше. Так начиналось воскресенье. Затем мы обедали и после обеда отправлялись с визитом к родственникам, пешком, а иногда и на трамвае. Одна наша родственница была в сумасшедшем доме, и мы регулярно ходили ее навестить – помню, как меня до смерти пугали крики сумасшедших за оградой.
Еще у нас была кухня с мраморным столом, очень холодным зимой. Это был и мой письменный стол до моего восемнадцатилетия. На кухне была газовая горелка. Вернее, во время войны газа у нас не было и мы топили углем, готовили на печке, разводили огонь. Газ появился намного позже, если память не изменяет мне. Еще был кухонный шкаф, в котором хранилось съестное. Я обожал фрукты, но восхитительную дверь шкафа, в котором были яблоки, я мог открыть только раз в день: в день мне разрешалось съесть только одно яблоко.
У моего отца был старый велосипед, на котором он ездил на работу и возвращался домой в своей провонявшей до последней ниточки спецовке. Этот велосипед был для него очень дорог. Так дорог, что он никогда не оставлял его не то что на улице, но даже в подъезде, под лестницей, хоть дверь в подъезд закрывалась. Каждый вечер он на плечах заносил велосипед в гостиную, чтобы его никто не украл. К раме велосипеда, на которой он возил меня, когда я был маленьким, привязывалась сумочка, в ней был контейнер с едой. Мама каждый день клала туда яичницу с хлебом или что было съестного – этим он обедал в мастерской.
В остальном в доме не было ничего такого, к чему мы, современные люди, совершенно привыкли. Ничего развлекательного не было. Только подумай, не было ни радио, ни телевизора – последнего еще и потому, что его просто не изобрели. Радио тем не менее в то время уже существовало (во время войны люди слушали ВВС, слушали новости, транслировавшиеся с освобожденных территорий Италии), но, чтобы купить радио, у нас не было денег. И телефона у нас, конечно же, тоже не было. Все появилось позже.
Сначала появилось радио. Это был особенный и памятный для меня день. Радио мы смогли купить после долгих сбережений, в рассрочку (а вещи в то время приобретались именно так). Боже мой! Вот это было событие! Мы пошли в магазин, который я помню, как сейчас, он был на углу Виа Мадджио и Пьяцца Питти.
Фолько: Сколько тебе было лет?
Тициано: Точно не помню – семь-восемь. Мой отец, истый коммунист-«левак», делал одну очень важную вещь, которую многие флорентийцы делают и по сей день: дежурил на общественных началах в Доме милосердия3. Он был «пятничным дежурным», то есть нес службу по пятницам. Идя на дежурство, на голову он набрасывал капюшон, что всегда пугало меня. Обычай с капюшоном возник во время чумы во Флоренции: когда перевозчики трупов4 отправлялись выносить тела или переносить больных в лазарет, то одевались во все черное и надевали капюшон, скрывавший лицо, – может, чтобы остаться неузнанными, а может, и для собственной защиты.
Эту традицию продолжило прекрасное заведение, которое находится рядом с Дуомо и называется Домом милосердия. Прекрасное также в том смысле, что в нем одинаково достойно, с равными правами и обязанностями служили флорентийцы всех званий и статусов: от самых благородных до самых бедных, как мой отец. Там он отслуживал свой час, потому как дежурство длилось всего один час. Когда кто-то приезжал на велосипеде с возгласами о заболевшей бабушке (или позже, когда появился телефон, звонил), то дежурные отправлялись пешком, а позже на скорой, и привозили раненного или больного в Дом милосердия.
Это дежурство давало моему отцу возможность социализации. Он был человеком несмелым, робел перед людьми, в особенности перед богатыми, знатными и власть имущими. А там все были запросто вместе. Дежурство проходило в прекрасной зале, и я ее прекрасно помню: часто ходил туда мальчишкой вместе с мамой, чтобы посмотреть на отца, одетым во все черное, как перевозчик трупов. Там он мог общаться с графами, маркизами, с людьми других социальных классов.
Так вот, возвращаясь к радио. Для того чтобы приобрести его, мой отец провел настоящее исследование рынка, используя свои контакты из Дома милосердия, и разузнал, где купить радио хорошего качества и тому подобное.
Рассказываю тебе и понимаю, что я был уже старше, когда у нас появилось радио. Скорее всего, мне уже было больше 12—13 лет. Я часто болел, когда был маленьким, – ну я тебе уже не раз рассказывал. Здоровье у всех было слабое, ели мало. У меня был хронический туберкулез лимфоузлов, поэтому я часто болел и лежал в постели.
И вот мой отец, замечательный человек во многих отношениях, мастер на все руки, смастерил мне то, о чем нельзя было и мечтать, – приемник! Он наверняка сделал его своими собственными руками, потому как такой вещи было не купить. Очень замысловатый аппарат. По сути, это было радио, которое работало по принципу кварца и иголки. Я, честно, толком не понимаю, как это все было изготовлено. Помню только, что нужен был кварц и игла, вроде той, что на граммофоне, – она крепилась к пружине и перемещалась по кварцу. Видимо, таким образом менялась частота. Если игла вставала удачно, то можно было слушать радио! Еще были большие наушники, как у пилота, – ума не приложу, откуда отец их раздобыл, – они заменяли динамик. Такая вот кустарная вещица. Когда я болел и лежал в постели, в жару, мама приносила мне молоко или бульон, а я слушал по радио новости.
Радио было, конечно, последним словом техники по сравнению с моим приемником. Ты нажимал на кнопку, и – ррраз! – сразу мог его слушать.
Фолько: Первый шаг к современности.
Тициано: Да, вот это было событие! Это радио было просто потрясающим! Если бы оно было у нас сейчас, то мы бы могли продать его антиквару за кучу денег. Оно было из лакированного дерева, с крутящимися колесиками регулировки частоты – не то что современные цифровые агрегаты, которые не поймешь, как и действуют. Еще была зеленая лампочка, которая загоралась и гасла в зависимости от того, далеко или близко была частота. Оно было выпуклым, с округлыми поверхностями, а колесики были не какие-нибудь пластмассовые, а костяные. Это радио стало первым предметом роскоши в нашей семье.
К чему я все это. Просто хочу, чтобы ты представил, каков был мир, в котором я рос. В этом мире была всего одна улица без какого-либо дорожного движения, кроме трамвая, который только после войны стал электрическим, а до этого, как ты помнишь, был на лошадиной тяге. Этот трамвай поворачивал прямо напротив нашего дома и шел до центра, до Сан Фредиано. Там он разворачивался и ехал к нам. В общем, ездил туда и обратно от наших задворок до далекой Флоренции. Мы жили за городской стеной и между нами и городом были поля, Флоренция была для нас как другая страна.
На самом деле, это было трагедией жизни моей матери: она вышла замуж за человека, который вывез ее за пределы городской стены, за пределы Флоренции, «из тени купола Дуомо», где она родилась и так гордилась этим. Моя мать была немного аристократкой и не любила тот мир, в котором она оказалась. В этом мире была одна улица с трамваем, люд, шныряющий на велосипедах, тротуар, который был одновременно и центральной площадью нашего местечка. Она не любила выходить в этот мир, чтобы «посудачить», как говорила она. Все остальные женщины, наоборот, каждый летний вечер выносили на улицу плетеные стульчики и усаживались «посудачить» и посмотреть, как мальчишки играют в прятки и прыгают на одной ноге по брусчатке мостовой.
Раннее детство я провел у дверей нашего дома. Моя мать все время следила, чтобы я не испачкался и не ушибся. Такой была моя среда, полная предрассудков и, очевидно, различных социальных ограничений. «Слушай, а этот-то!.. А жена того-то… Держись от нее подальше!» Но именно благодаря этим ограничениям это был надежный мир: все очень хорошо его знали, и незнакомцев в нем не было.
Фолько: Похоже, многие люди-исследователи выросли в подобной среде.
Тициано: Наверное. В этом мире все знали все и обо всех. Все знали, что владелицу табачной лавки изнасиловали американские солдаты, когда она пошла набрать дров у Арно.
Фолько: Что?!
Тициано: Когда пришли американцы, они начали вырубать все деревья во Флоренции. Они добрались и до красивейшей рощи с огромными дубами и платанами. Для чего им нужны были деревья, точно не знаю, может, для траншей или шпал – фактом остается то, что они начисто ее вырубили. Эта роща так и называлась – Рощица. Позже это место стало одним из самых густонаселенных жилых кварталов Флоренции, Изолотто. Теперь там и деревца не осталось от этой рощи, но, когда я был маленьким, там не было практически никакой цивилизации. Американцы рубили огромными топорами, и с каждым ударом в стороны отлетали большие щепы, которые были для нас на вес золота. Мы, я и мать, тоже ходили туда за щепами, чтобы топить и готовить еду. Ну так вот, поговаривали, что с владелицей табачной лавки там и произошло это самое… И это пятно осталось с ней на всю жизнь.
Всем этим я хочу сказать, что в таком обществе отдельный индивид был не то чтобы очень свободен, наоборот, был под большим контролем. Но в этих ограничениях, с другой стороны, была и гарантия, потому что все всё знали друг о друге. Еще была сильна солидарность, готовность помочь друг другу. Ну, например, если ты шел купить хлеба, а денег не было, тебе его продавали в кредит. Я думаю, что никто не отдавал деньги раньше начала месяца, после зарплаты. У каждого лавочника была тетрадка, в которой он напротив твоего имени записывал, например, «три килограмма муки…» – ну, как это делает Беттина у нас в Орсинье, когда продает нам что-нибудь. Честность была очень важна, особенно в денежных вопросах. Если Текла, булочница, по ошибке давала тебе сдачи на пол-лиры больше, эти пол-лиры надо было обязательно вернуть. Сегодня это трудно себе представить, но таковы были правила того времени.
Таков был мир моего детства, мир, полный ограничений. Флоренция казалась мне чем-то далеким. Мы бывали там с матерью и отцом изредка по воскресеньям. Да, эту историю я тебе рассказывал, мы отправлялись…
Фолько: …за мороженым.
Тициано: Нет, не за мороженым, а посмотреть, как богатые едят мороженое. Этого я никогда не забуду. Я, одетый во все «воскресное», опрятный, в начищенных ботинках (перед тем как выйти на улицу, надо было всегда натирать до блеска ботинки), моя мать, отец в двубортном пиджаке и при галстуке отправлялись пешком от Монтичелли5 до Пьяцца делла Синьория.
Я все время повторяю: «Мы были бедными, есть было нечего…» Потом смотришь на фотографии: все прилично одеты. Как, бедные? Нынешнему поколению, такому небрежному в одежде, тебе в том числе, этого не понять. А дело в том, что тот костюм, который ты видишь на фото, я носил только по воскресеньям!
Фолько: А у нас нет фотографий, где ты одет, скажем, в понедельничное?
Тициано: Нет. Была одна небезызвестная, где я в фартуке высовываю палец из дырки в кармане, но ее выкинули. Моя мать не хотела, чтобы кто-то увидел, что у меня был фартук с дыркой.
Так вот, к истории с мороженым. На Пьяцца делла Репубблика был большой ресторан, Пасковски. Столы стояли в том числе на улице, ну как сейчас, и вокруг этих столов была живая изгородь, растения в больших кадках, чтобы скрывать от любопытных глаз посетителей ресторана. Мне и моим родителям разрешали через эту изгородь подглядывать за господами, кушающими мороженое. То есть мы отправлялись в город для того, чтобы посмотреть, как господа едят мороженое! Сейчас это сложно себе представить, но в моем детстве это было в порядке вещей.
Несмотря на это, у меня было счастливое детство. Конечно, у нас были проблемы, но мне, по сути, было наплевать на них. Мне было только жаль мать: она страдала больше всех, когда у нас не было денег. На самом деле, первые унижения, которые я испытал в жизни, я испытал как бы за нее, увидел ее глазами.
Одну историю надо обязательно тебе рассказать. Я уже говорил, что очень часто у нас не было денег, чтобы дотянуть до конца месяца. Недалеко от Виа дель Порчеллана, где родилась моя мать, было заведение, называющееся Монте ди Пиета, «место милости», – одно название чего стоит! – так вот, туда можно было отнести любую вещь любой ценности, а тебе взамен ссужали немного денег под большие проценты. Вещь можно было выкупить, когда у тебя снова появлялись средства.
Прекрасно помню, что дома у нас не было практически ничего, что можно было бы заложить. У моей матери не было ни колец, ни другого золота. Единственной золотой вещью было обручальное кольцо, но его, как утверждала она сама, она бы ни за что никогда не заложила. Зато у нее были простыни из приданого, на которых мы никогда не спали (когда девушка выходила замуж, ей давали четыре-пять пар льняных простыней с инициалами, «Т» – Терцани и так далее). Так вот, они хранились в том самом комоде с мылом и лавандой, где прятались деньги. У нас было две-три пары хороших льняных простыней, которые мы, когда деньги заканчивались, относили в Монте ди Пиета. Отлично помню – это одно из самых первых болезненных переживаний моей жизни, – как моя мать крепко держала меня за руку (а я был совсем маленьким), в другой руке у нее была сумка с этими простынями. Она оглядывалась вокруг, чтобы убедиться, что никто из знакомых не видит, как она заходит в это оскорбительное для нее место позора, бесчестия.
Смеется.
Помню, как она говорила: «Вперед, можно!», и мы быстро проскальзывали внутрь и направлялись к большим прилавкам, где брали простыни. Там нас ждал один и тот же сотрудник, который говорил: «Ммм… за эти… три, ну хорошо, четыре лиры…» Больше не давали. Если простыня стоила 50 лир, тебе давали только пять. Но эти пять лир спасали тебе жизнь. Спустя две недели ты приносил назад эти пять лир с процентами и простыни возвращали. Это возвращение за простынями было новым испытанием – снова нужно было озираться, чтобы никто не увидел.
Самые первые запомнившиеся мне детские переживания – унизительные походы в Монте ди Пиета, понимание того, что мои добрые и замечательные родители, по сути, очень слабые и уязвимые люди.
Смеется.
Осознание этого послужило для меня, в некотором роде, двигателем. Я помню, что еще маленьким я каким-то образом понял, что должен вырваться из этого мира ограничений. А это был мир в том числе физических ограничений: маленький дом с дыркой в полу вместо туалета, без водопровода, с купанием в одной и той же кадке. Мне было тесно в этом мире, и я чувствовал, что должен вырваться оттуда.
Фолько: Но как ты понял, что есть другой мир?
Отец смеется.
Тициано: Первым человеком, от которого я узнал о существовании другого мира, был самый большой враль в нашем семействе, сын двоюродного брата моего отца, того самого, который убирал конские яблоки. Шла война, из Монтичелли он был катапультирован на военный корабль, который курсировал по Средиземноморью. Благодаря этому он побывал в Испании, Гибралтаре – в общем, только выиграл от такой телепортации. Вернулся он с рассказами о чудных рыбах, которые мигом съедали твою гетру, если ты окунал ногу в воду, и, вообще, заливал во всех красках. Но хоть он и был враль каких мало, я был просто очарован. Прежде всего, потому что у него была настоящая матросская форма! Наш Марио-моряк. Так вот, он был первым, от кого я услышал о «другом» мире. Наверное, именно благодаря ему я понял, что он существовал, этот «другой» мир. Впоследствии, очевидно, этот «другой» мир оброс в моем сознании другими деталями из других источников.
Фолько: Когда я вспоминаю о детстве, то мне, прежде всего, приходят на ум мои друзья. А у тебя…
Тициано: Нет, у меня в детстве было не так много друзей. Моя мать не разрешала мне играть в игры настоящих мужчин, например, в футбол. Это еще одно страшное унижение, которое мне приходилось испытывать в детстве. Моя мать хотела девочку, а не мальчика. Так вот, первые четыре или пять лет моей жизни я провел в девчачьей одежде, в юбках. На самом деле, в то время одежда, как говорят сейчас, была что-то вроде «унисекс»: даже мы, мальчики, ходили в школу в фартуке, длинных штанов в раннем детстве просто не было.
Была еще одна проблема: моя мать была помешана на чистоте. Футбол значил для нее валяться на земле и пачкать одежду, поэтому она строго контролировала все, что я делал. Помню, с каким страданием я, стоя у окна на Виа Пизана (мне было шесть, семь или восемь лет), наблюдал, как ребята из нашей школы, довольные и чумазые, шли играть в мяч. Как раз перед нашим домом была площадка, которую после войны расчистили от металлолома, останков танков. И мне приходилось стоять у окна и наблюдать, как они играют на этой площадке в мяч!
Фолько: Как же это тебя, должно быть, угнетало!
Тициано: Еще как. До такой степени, что мне пришлось изобрести собственный мир. Моя мать была отличной рукодельницей. Чтобы как-то сгладить свою вину за то, что не отпускала меня играть в мяч, она сшила мне перчатки и наколенники. Когда я шел по Виа ди Соффиано за руку с матерью и меня спрашивали: «Будешь играть?», я отвечал: «Нет. Я вратарь в другой команде», притворяясь, что играю в команде другого квартала.
Смеется.
Но и там я не играл тоже – не мог, мать не разрешала. В то время произошел небезызвестный случай с Толстячком, который кинул в меня камень со словами «Эй ты! Зачем тебе вообще твоя пипка?», намекая на то, что я трус, девчонка. Из-за этого камня у меня появился первый в моей жизни шрам на лице.
Вот он, мир, в котором я рос и из которого я сбежал при первой попавшейся возможности.
Фолько: А дедушка тоже был против того, чтобы ты играл в футбол?
Тициано: Отец играл очень ограниченную роль в повседневной жизни нашей семьи: он очень рано уходил и возвращался поздно вечером. Весь день я был с мамой. А мать моя, надо признаться, была довольно своеобразной. И натерпелся же я из-за нее страху за мои шалости, самые обычные для детей. Однажды я разбил стекло того самого буфета из ее треклятого приданого. Мячом или чем другим – не помню. Я был в конце концов мальчишкой, баловался и шалил, и вот стекло – вдребезги! Господи! И перетрухнул же я. У матери не хватило духу надавать мне оплеух и запереть в темной комнате, как было принято наказывать детей в те времена. Вместо этого она пригрозила: «Вот придет отец – он тебе задаст». Помню, с каким ужасом я ждал шесть-семь часов, когда вернется отец и устроит мне взбучку.
Фолько: И он тебя наказал?
Тициано: Не помню. О таких вещах не хочется помнить.
Еще моя мать чрезмерно опекала меня. На самом деле, мое последующее бегство было, прежде всего, бегством от нее. Отец был другим. Да, он был слегка робким – боялся силы, власти, – зато умным и потрясающе щедрым человеком. Такие вещи не забываются. Он нес груз ответственности за всю семью, работал, чтобы прокормить нас, но за ужином самая большая отбивная доставалась не ему, а мне. И все-таки, он был главой семьи, это не обсуждалось.
Еще не забыть. Хочу рассказать о происхождении нашего семейства и фамилии, а также о месте, откуда мы родом. Ведь твой сын и знать не будет, откуда взялась его фамилия, Терцани.
Терцани происходят из местечка Мальмантиле в 20—25 километрах от Флоренции, это на берегу Арно рядом с Понтедера. Забавно, но я сам открыл это местечко совершенно случайно, до этого я никогда не слышал о нем. Знал только, что Терцани были каменщиками. Сейчас не совсем понятно, что такое «каменщик», «каменщик» может означать многое. В то время это слово означало профессию каменотеса: наши предки тесали камень тосканского песчаника для мостовых, тротуаров, домов, крылец по всей Флоренции. Поэтому, когда я впервые встретился с Гвиччардини6 и мы смотрели на Флоренцию с высоты их палаццо, я сказал: «Этот город построили мы вместе. Вы благодаря идеям и деньгам, а мы своими руками. Потому как камни, в том числе для этого палаццо, тесали мои предки».
В Мальмантиле мы обнаружили грот Терцани. Это то место, где наши предки многие века добывали и дробили камень для последующей транспортировки во Флоренцию. Задумайся: ведь этот труд равноценен труду древних египтян, строивших пирамиды.
Но что нас впечатлило больше всего, меня и маму, когда мы были там, так это темная, мрачная хижина с крошечной дверью в старом городе Мальмантиле внутри городской стены, где жили Терцани. Я сразу обратил внимание на огромный деревянный стол, который невозможно было бы занести внутрь через маленькую дверь, а стена дома была из цельного камня. Нам рассказали, что стол был сооружен уже внутри дома и что за ним трапезничала вся семья.
Мой дед Ливио родился в этом доме. У деда были красивые белые усы, он был прямым, но вспыльчивым человеком и замечательным рассказчиком. Видимо, я многое унаследовал от него. У деда было шестеро детей – Джерардо, Гусмано, Ваннетто, Аннетта и еще двое, которые умерли в раннем детстве. Когда моя бабка Элеонора выходила из дому, то привязывала своих чертенят – четырех к ножкам кухонного стола и еще двоих к деревянной лавке, – чтобы те не убежали. Вот истории, а? Детских садов-то не было.
Когда в семье появлялась лишняя копейка, то покупали одно яйцо. Все дети садились на эту самую скамью и каждому разрешалось отхлебнуть разок из этого яйца – в те времена считалось, что свежее яйцо обладает особой питательной ценностью.
Мой отец, Джерардо, сначала был токарем. Если я не ошибаюсь, он закончил третий класс начальной школы и сразу пошел работать. Он мог писать и читать, хотя эти занятия и не были для него чем-то повседневным и обыденным. Позже он вместе с товарищем открыл небольшую мастерскую и, управляя ей, научился неплохо считать. С Линой, моей матерью, он познакомился потому, что она жила на Виа дель Порчеллана и работала шляпницей у Порта аль Прато (как ты знаешь, в то время дамы носили шляпы). Каждый день он видел, как эта красавица шла с работы домой – а бабушка Лина была настоящей красавицей, с бархатистой белой кожей, волосами цвета воронова крыла, – и ему, ничем не примечательному, невысокому пареньку, каким-то образом удалось завоевать ее. Еще одна замечательная история из жизни бедняков.
Моя мать не была семи пядей во лбу, скорее, наоборот, ограниченной и с кучей предрассудков. Она часто говаривала: «Я из Флоренции, э! И мой отец работал у маркизов Гонди, а не у какого-нибудь пекаря из Монтичелли!» Она ненавидела Монтичелли, потому что это было за городской стеной и туда не падала тень Дуомо. Ей казалось, что она своего рода в ссылке, и поэтому не водилась с грубыми товарками из Монтичелли. Такой была моя мать. У нее всегда было стремление быть не такой, как все, которое, должен признаться, я в некоторой степени наблюдаю и у себя.
Она никогда не ладила со своей свекровью, бабушкой Элеонорой. Обе постоянно ссорились. Бабушка все время ставила моей матери в вину, что та изображала из себя синьору и мнила себя не пойми кем. Однажды моя мать и бабка встретились в лавке. У моей матери на голове была шляпка: она любила одеваться элегантно. Так вот, моя бабка подскочила к ней и со словами «Да кем ты себя возомнила, синьора!» стащила шляпу с головы. В общем, обычные отношения невестки и свекрови.
У моей матери были все пунктики бедняков, мечтающих немного разбогатеть. Я тебе много историй рассказывал, все как на подбор! Например, она очень гордилась тем, что ее отец, мой дед Джованни, был поваром в доме маркиза Гонди, и не просто поваром, а любимчиком маркиза. Однажды маркиз узнал об измене жены и помчался к шкафчику с оружием за револьвером, чтобы убить ее. Мой дед встал между маркизом и его неверной женой и вырвал пистолет из его рук. Огромное мужество для повара забрать револьвер у маркиза! С тех пор маркиз был очень благодарен и добр к повару Джованни, особенно под конец жизни деда, который не заставил себя долго ждать. И мой дед, и две сестры моей матери умерли от туберкулеза.
После его похорон все пожитки семьи выбросили из окон третьего этажа, чтобы сжечь их прямо на улице на костре во избежание дальнейшей заразы. После этого моя бабушка пришла жить к нам в чем была, с небольшим узелком траурной одежды и золотой булавкой с маленькой жемчужиной – больше у нее не осталось ничего. Моя чудесная бабушка Элиза, я много от нее унаследовал! У нее были глаза глубокого синего цвета, белая прозрачная кожа и нос немного картошкой, как у меня и Саскьи. Она была мудрой, восхитительно мудрой, с потрясающим чувством собственного достоинства, скромной, но тем не менее уверенной в себе. Благодаря этому она нашла свое место в новой семье – а с нами она прожила почти десять лет.
Знаешь, что сделал мой отец, когда к нам переехала жить бабушка? Это было так трогательно! Благодаря своей изобретательности он смастерил комнату для бабушки, которую мы устанавливали каждый вечер и снова разбирали утром. В пол гостиной вставлялся металлический шест, между этим шестом и стеной на крюках растягивалась занавеска. Это была спальня бабушки Элизы. Утром, когда мы просыпались, все это убиралось, шест клали под кровать, занавеску складывали. Вечером, когда семья отправлялась на покой, я помогал растянуть занавеску, и бабушка скрывалась в своей спальне. Она и умерла за этой занавеской. Сравни эти условия жизни с нашими теперешними условиями, с нашими домами!
Фолько: В Индии многие до сих пор так живут.
Тициано: Для того чтобы жить с достоинством, в чистоте, в таких условиях – а бабушка всегда была очень аккуратной, всегда пахла боротальком7 – нужна огромная самодисциплина. Такой дисциплиной моя мать не обладала.
Моя мать была помешана на своем маркизе, любимчиком которого был дедушка. Она гордилась этим настолько, что рассказывала мне, когда я был еще совсем маленьким, что «маркиз так любил нашего дедушку, что даже оставлял ему то, что не съедал сам». Еда в те времена была самым важным. Когда маркизу в горло уже не лезла курица, он отдавал ее моему дедушке. Об этом в нашей семье рассказывали как о факте величайшей щедрости маркиза и величайшего престижа дедушки. Мне это уже тогда действовало на нервы… Я всегда был в некотором роде анархистом.
Фолько: Уже тогда?
Тициано: Может, с этим рождаются и это закодировано в ДНК. Я всегда был анархистом. Если я видел полицейского, то у меня сразу возникало желание надавать ему пинков. Власть всегда была для меня чем-то чужеродным. Она всегда раздражала меня.
Фолько: Странно: ни дед, ни бабушка не были бунтарями.
Тициано: Нет, но ведь это еще не вся семья. Вот бабушка Элиза и ее брат, дядя Торелло, – они были немного сумасбродными. Хоть они и были крестьянами, но вели себя немного как синьоры. Ездили на бричке, например. Вообще, были другими. Особенными.
Фолько: Значит, у тебя перед глазами были и другие примеры.
Тициано: Да, были и другие представители семейства, слегка сумасброды, и мы часто с ними встречались, потому как семейные визиты были обычным делом. Развлечений в то время не было, поэтому единственное, что оставалось, – это ходить друг к другу в гости. А ходить надо было очень аккуратно, чтобы не дай бог не попасть на обед. Только после него! И даже если меня пытались угостить чем-то вкусным – а я просто обожал шоколад и печенье, – мне приходилось говорить по три, четыре, пять раз: «Нет, спасибо!»
Вот такое у меня было воспитание. Что мне оставалось? Однажды, помнится, я получил оплеуху за свое бунтарство. Одна из сестер бабушки Элизы просто обожала меня и, когда мы приходили в гости, покрывала меня своими слюнявыми противными поцелуями. Я, недолго думая, сразу обтирал щеки, а родителям было за это стыдно. Честно сказать, я со всей этой компанией не больно хотел иметь дело.
Фолько: Хочешь сказать, что ты чувствовал себя чужаком в семье?
Тициано: Именно так. И родственники также поняли это, еще когда я был маленьким. Я был словно сам по себе. Помню, как стервец дядька Ваннетто говаривал: «Кто может быть уверен, что этот пацан сын своего отца?» Конечно, это была шутка, но, по сути, все замечали, что я какой-то не такой. Их мир не был моим миром. У меня всегда вертелась в голове мысль, что мне нужно бежать оттуда.
Предполагалось – и это было абсолютно нормально в те времена, – что после окончания начальной школы я пойду работать к отцу в мастерскую. Ты начинал с подмастерья, менял масло, а потом постепенно начинал собирать детали и становился механиком. Дома все время повторяли: «Ну вот, окончишь школу – пойдешь помогать отцу». И мой отец ни о чем другом не помышлял – такова была жизнь, так было принято.
А у меня-то были другие соображения.
Я часто сильно кашлял, иногда просто задыхался от кашля. Поэтому меня водили пить из колодца, мимо которого, по поверьям, проходил Франциск Ассизский и оставил на его дне ветку сандала. Считалось, что вода в колодце была освященной, и моя мать давала мне пить эту воду, считая, что это обязательно должно было мне помочь. После этой процедуры мы шли наверх к Беллосгуардо8. Представь себе, что значило оказаться окруженным этой красотой с Торре ди Монтауто, Виллой делль Омбреллино, Торре ди Беллосгуардо после нашей крошечной квартиры в Монтичелли! Это был совсем другой мир. И я чувствовал, что он – мой, что я должен обязательно оказаться в нем. Смотря на эти прекрасные виллы, я думал: «Черт, да кто же живет в этих красивых домах?» А мать рассказывала: «Это дом немецкого художника, а там живет английский скульптор» – это она знала из сплетен. И факт того, что все эти дома принадлежат иностранцам, привел меня к мысли о необходимости тоже стать иностранцем, чтобы иметь возможность жить в таком доме. Я это, конечно, в шутку, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды.
Таковы были первые годы моей жизни. В них не было каких-то серьезных душевных травм, потрясений. Первые пять лет начальной школы я проучился в Монтичелли, возле дома. Каждый раз, когда я выходил из школы, меня ждала мать. Ни разу я не вернулся домой один, она все время вела меня за руку. Помню, что мальчишки вроде Толстячка, как только выходили из школы, начинали драться линейками! Проходя мимо, они и мне заряжали линейкой по голове. А я даже не мог ударить в ответ, потому что мать все время держала меня за руку.
Смеется.
Фолько: Значит, ты все время учился, раз уж играть тебе было нельзя?
Тициано: Учился, но нельзя сказать, что я не отрывался от учебников… Тем не менее я всегда был лучшим в классе – что не удивительно, ведь там были только дети рабочих.
Фолько: А родители поощряли тебя?
Тициано: Для матери было важно, чтобы я учился хорошо, для отца – не очень. После учебы все равно ведь надо было работать. А вообще, меня и поощрять-то не надо было, я учился потому, что идентифицировал себя с учебой. Мне нравилось быть лучшим в классе – лучшему давали отличительный бантик, кокарду. Обязательная школа заканчивалась после пятого класса. После начиналась рабочая жизнь. Мне повезло, потому что мой последний учитель начальной школы сказал родителям: «Пусть мальчик учится! По крайней мере дайте ему окончить среднюю школу».
Средняя школа стала для меня первым шагом к свободе. Школа находилась на Понте Санта Тринита, и тот самый трамвай, который разворачивался у нашего дома, стал моим. Я садился в трамвай, – один! – потому как мать не могла себе позволить все время сопровождать меня, и три года наслаждался своей первой свободой. В этой школе я начал заводить друзей, подружился с Барони, сыном зубного врача и племянником священника, от которого он позже унаследовал великолепную библиотеку…
Фолько: Ну наконец-то! Книги!
Тициано: Ты знаешь, как я отношусь к книгам, Фолько. Так вот, в доме моих родителей никогда не было ни одной книги. Ни одной! Мой дядька Гусмано, брат моего отца, был по профессии переплетчиком. Ради лишней копейки он подрабатывал, как бы сказали сегодня, «по-черному»: дома он переплетал книги для богатых людей, в частности, врачей. Поэтому первые книги в моей жизни, которые я, конечно же, сразу проглотил, были от него, в том числе разрозненная история Италии. Для меня она была просто сказочной, со всеми этими цветными картинками: Муций Сцевола, опускающий руку в огонь, убитый Юлий Цезарь, Нерон, поджигающий Рим. Мой добрый дядька давал мне книги в разрозненном виде, я украдкой читал их, а потом он переплетал их в прекрасную кожаную обложку. Какие это были сильные чувства! Это были первые книги, к которым я прикоснулся в моей жизни.
Фолько: И ты сразу полюбил их?
Тициано: Сразу. Мой книгофетишизм зародился именно тогда. А теперь, как видишь, наш дом забит книгами снизу доверху.
Когда я начал ходить в среднюю школу, я стал свободнее, повзрослел. Никто не раздавал больше подзатыльников, а трамвай переносил меня в большой мир, во Флоренцию. Я заводил друзей из высшего общества. А библиотека дядюшки священника дель Барони! Мы часто делали у него домашние задания, и я то и дело выносил по книге, чтобы прочесть потом дома. Это были прекрасные книги, в кожаном переплете, с золотыми надписями. Я, Гамбути и еще двое других были заподозрены в выносе книг, и Барони в конце концов пришлось даже обыскивать нас!
В последнем классе средней школы – то есть мне было четырнадцать лет – решающую роль в моей жизни сыграл Кремаско.
Фолько: Твой учитель?
Тициано: Да, учитель средней школы. Про мои школьные сочинения он как-то сказал: «Я еще тогда понял, что из тебя вырастет писатель». Ему исполнилось 96 лет, и я до сих пор переписываюсь с ним. Именно ему я отправил «Еще один круг на карусели»9 с посвящением: «Дорогой учитель! Если бы не Вы, я бы никогда не написал этой книги». Я обязан ему всем, потому как именно он пригласил моих родителей на беседу. В те времена побывать у преподавателя… Представь себе, моих мать и отца приглашает профессор Кремаско из средней школы Макиавелли в великолепный палаццо у моста Санта Тринита и говорит: «Боюсь, от вас потребуются дальнейшие жертвы. Вы должны отправить мальчика в гимназию».
Фолько: Не могу понять, откуда у тебя был этот интерес к учебе. Это ведь не из твоей семьи. Как ты думаешь, это врожденное?
Тициано: Мой дядька был не так далек от истины, шутя, что я не был сыном своего отца. Ну слушай, мы же не с конвейера выходим. У каждого человека свой личный мир. Мой мир был таким. Тогда мы начали читать «Илиаду» Гомера, и я был просто в восторге.
В общем, он убедил моих родителей отправить меня в гимназию. Именно тогда случилась небезызвестная история покупки моих первых длинных штанов в рассрочку. Это была потрясающая операция. Мы отправились к торговцу галантереи, тоже знакомому моего отца по Дому милосердия, и у него купили мои первые длинные велюровые штаны. Каждый месяц моя мать ходила к этому синьору выплачивать причитающуюся долю. Сложно представить себе, за какие-то штаны!
Фолько: У тебя была всего одна пара штанов?
Тициано: Естественно. Мать стирала их в воскресенье, так что в понедельник я снова мог их надеть. Так и жили, Фолько, так и жили. В гимназии я учился в одном из красивейших мест во Флоренции, не помню, показывал я тебе или нет, на Пьяцца Питти. Там я прочитал Данте, Мандзони10. И все это с видом на палаццо Питти! Это было восхитительно! Окунуться в другой мир, насладиться прекрасным языком… История любви Ренцо и Лючии была просто потрясающей. Крючкотвор11, бедняки, которых обманывают богатые, власть имущие, священники – все это страшно интересовало меня и давало пищу для ума.
Фолько: А что тебя интересовало помимо учебы?
Тициано: Девушки, что же еще! Можно сказать, я открыл их для себя именно тогда. Ведь мы все время были разделены. Девочек не было ни в начальной, ни в средней школе. А здесь, в тот самый день, когда я впервые вошел в гимназию, в этот потрясающий палаццо, на первой скамье вижу блондинку. Та-дам! И я уже рядом с ней. Она была моей невестой три года. Ее звали Иза. Нам даже пришлось помолвиться, ведь мы встречались. Тогда все было совсем по-другому, о сексе не могло быть и речи. Мы были совсем юными и просто прогуливались по Виале дей Колли после обеда, когда заканчивались занятия, держась за руки. И вот однажды ее отец, у которого была строительная фирма и автомобиль, – святая Божья матерь! автомобиль! – поймал нас и сказал: «А теперь вы помолвитесь у нас дома12. Я не хочу, чтобы моя дочь…» Ну и так далее.
Фолько: Значит, вам пришлось по-настоящему помолвиться?
Тициано: Да, у них дома. Мне пришлось уговорить отца соблюсти обычай и пройтись пешком с букетом цветов от Порта Романа до их виллы, чтобы познакомиться с этими дуралеями. А потом я отправлялся в Орсинью, и там у меня было еще двадцать таких невест.
После двух лет гимназии я перешел в Личео Галилео, большой классический лицей рядом с Дуомо.
Фолько: Почему ты решил пойти в классический? Это ведь было не так практично.
Тициано: Что ты! Я хотел учиться именно в классическом. Вообще, этого практического подхода не существовало. В то время учились не для того, чтобы потом найти хорошую работу. Учились для того, чтобы учиться!
Потом начались все эти запутанные истории. Я стал любовником женщины намного старше меня. И это было еще одним пинком под зад для меня, в том смысле… черт возьми!
Фолько: То есть ты понимал, что от нее нужно удирать?
Тициано: Этого ведь никогда не знаешь. Я просто начал понимать, что всю жизнь оставаться флорентийцем – не для меня.
Когда мне было шестнадцать, я мечтал побывать за границей. Вместе с приятелем, Клето Мендзелла, мы отправились на вокзал, чтобы в газете Journal de Genève поискать работу на время каникул в Швейцарии. И тут случилась очень забавная история. Я учил французский и полагал, что знаю его. В газете я нашел объявление, в котором говорилось, что одна большая гостиница в Бей сюр Вевей ищет garçon d‘office. Несмотря на всхлипывания матери, я отправил куда подальше летние каникулы в Орсинье и поехал вместе с Мендзелла в Швейцарию. Все было организовано: трудовая книжка, паспорт, контракт с этой огромной гостиницей. Мы приехали, и один господин, руководящий персоналом, сказал: «Размещайтесь-ка в этой комнате со всеми другими официантами, позже я приду за вами и мы пойдем в office».
Оказалось, что office по-французски совсем не офис, где я, студент и пижон, мог бы преспокойно сидеть и стучать на машинке, а вонючая комнатенка, где я с утра до вечера должен был намывать грязные тарелки. Вскоре это мне порядком осточертело, я завел нужное знакомство и получил «продвижение по служебной лестнице». Тогда я выучил еще одно французское слово, encostiquer, «вощить деревянный паркет» – чем я и занялся.
Прошло еще полтора месяца. Мы подождали, пока нам не заплатят, и сразу рванули оттуда, потому как оставаться в горах не было больше никаких сил. И тут начались настоящие приключения. Мы отправились автостопом по Европе и доехали до Парижа. Площадь Пигаль, Мулен Руж – о! Мы гуляли по городу, жили в хостелах, как это теперь называется, знакомились с девушками, которые приглашали нас к себе. Потом мы отправились в Бельгию и вернулись через Германию. Это была моя первая вылазка в большой мир: я впервые пересек границу и понял, что это мой путь – идти и смотреть. До недавних пор это было моим двигателем по жизни: был хорош любой предлог, чтобы отправиться куда-то. Как же я любил разнообразие! Я до сих пор помню запах той комнаты, в которой я мыл посуду, запах воска огромных деревянных коридоров. Там все было по-другому: запах еды, улиц. Это был 1955 год, Флоренция и Швейцария были абсолютно разные вещи, не говоря о Париже!
Когда в начале учебного года мы снова встретились с однокашниками, нам все завидовали. Мы чувствовали себя героями. Конечно, ведь мы побывали в Париже, ездили на заработки. Надо признать, что мы повели себя довольно предприимчиво.
Фолько: То есть ты постепенно начинал делать то, что тебе нравилось. Что по этому поводу говорили родители?
Тициано: Мой отец продолжать жить своей маленькой жизнью, мать – своей. Когда я учился в лицее, дома я бывал редко. Занимался, в основном, в прекрасных залах библиотеки Маручеллиана, посреди всех этих старинных книг. В общем, я с головой был в учебе, я наслаждался.
Мой дядька Ваннетто заходил к нам каждый вечер до ужина и еще в подъезде на лестнице начинал вопрошать: «Ну, чем занимался сегодня наш лоботряс?» Это я у него был лоботрясом. Переживал, какого черта я, вообще, делаю. Я не работал, не приносил в дом ни кваттрино13, весь из себя пижон и фанфарон с платком на шее и трубкой. И вот он входил и говорил: «Чем же сегодня занимался наш лоботряс?». Это его «лоботряс» ужасно бесило мою мать.
Тем не менее, у меня был один из лучших аттестатов Флоренции. Банк Тоскана прислал мне письмо, от которого родители чуть не рухнули в обморок. Представь себе, меня приглашали на собеседование! Я отправился туда, и мне предложили место в банке. Для моего отца это было все равно, как если бы мне предложили стать Папой Римским, у него ведь за всю жизнь и банковского счета-то не было. В моем семействе это предложение восприняли как приглашение Иисуса, который спустился вниз и сказал мне: «Иди за мной!»
Я же был в ужасе. Для меня это было концом всего. Против меня восстало все семейство. Все были за то, чтобы я шел работать в банк, а дядька Ваннетто терроризировал меня больше всех.
Фолько: Ммм… теперь понятно, почему работа в банке для тебя всегда была символом зла!
Тициано: Символом всего того, что вообще не нужно делать. Мне пришлось сыграть в рулетку с Высшей школой в Пизе: если выигрываю – продолжаю учиться, если нет – тогда мне придется работать в Банке Тоскана. Когда я шел на экзамен, то не был насмерть перепуган. Но я определенно осознавал, что от него зависит вся моя жизнь. Это был грандиозный экзамен, к которому допускались только лучшие выпускники Италии. Претендентов было двести, а мест всего восемь. Я заполучил одно из этих восьми, и это изменило мою жизнь.
Кончилось лето, и я отправился в Пизу. У меня была комната в медико-юридическом общежитии, все было для меня бесплатно: питание, взносы, книги. При таких условиях моим родителям не оставалось ничего другого, как согласиться.
И это было особенное лето: лето, когда я познакомился с твоей матерью.
Отец кашляет.
Фолько: Устал?
Тициано: Да. Сделаем перерыв?
Фолько: Сколько же всего я слышу впервые. Как будто раньше у нас никогда не было времени поговорить.
Тициано: Я думаю, это полезно для тебя: ведь ты толком не знаешь своего происхождения. Я хочу, чтобы вы знали – не только ты, но и Саскья, и ваши дети, – каковы были культура и ценности того времени, поколения моих родителей: очень простые, но в то же время фундаментальные ценности. Честность. Достоинство. Если ты идешь к тем, у кого водятся деньги, и они хотят угостить, ты говоришь: «Нет, спасибо, я уже ел». Знаешь, такие вещи придают тебе силу, служат ориентиром по жизни. Если ты беден и слаб, да еще и выглядишь не пойми как… Но нет, ты аккуратен и презентабелен, и никто не будет подтрунивать над тобой. Ты так же элегантен, как и богатый, и угощаться у него не будешь – спасибо, сыт. Другая важная ценность – семья. На самом деле, этот каждодневный визит дядьки, который действовал нам на нервы, был не что иное, как театр. Важна была суть – у тебя была семья, и на нее всегда можно было рассчитывать.
С этими ценностями выросли мои родители и, в какой-то степени, передали их мне.
2
Марка итальянского фарфора.
3
Флорентийский дом милосердия.
4
Люди, которых коммуны привлекали для выноса тел, а также переноса больных в лазареты во времена чумы в Италии.
5
Район во Флоренции
6
Потомок флорентийской знатной и богатой семьи, в том числе Франческо Гвиччардини, политического деятеля и философа, жившего во Флоренции в 1483—1540 годы.
7
Косметический продукт на базе талька и борной кислоты, изобретенный флорентийским фармацевтом.
8
Район во Флоренции, расположенный на небольшом холме, с которого открывается прекрасная панорама города.
9
Книга Тициано Терцани.
10
Алессандро Мандзони (1785—1873) – итальянский писатель.
11
Персонаж романа Мандзони «Обрученные».
12
Помолвка в данном тексте означает знакомство родственников молодых людей, когда родственники жениха приходят знакомиться к родственникам невесты, и таким образом «гарантируется» приличность отношений молодых людей.
13
Мелкая монета.