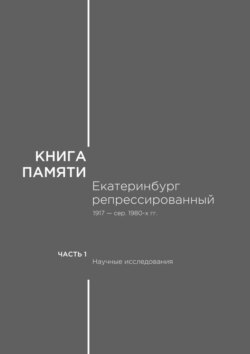Читать книгу Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть I. Научные исследования - В М Кириллов - Страница 10
Глава 4. Церковь и советский атеизм
4.2. Социальный портрет репрессированных священнослужителей (А. В. Печерин)
ОглавлениеК началу революционных потрясений 1917 г. Екатеринбургская епархия по количественным показателям достигла наивысшего расцвета за всю свою историю. Общее количество православного и старообрядческого населения в ее пределах составляло более полутора миллионов человек, при примерно 100 тысячах иноверцев. Количество приходов в 1917 г. равнялось 504 (465 православных и 39 единоверческих)243. Православного приходского духовенства в 1915 г. насчитывалось 1417 человек.
Являвшийся епархиальным центром Екатеринбург имел ряд особенностей, отличавших его от епархии в целом.
Таблица 2.1
Приходское духовенство в 1915 году*
* Составлено по: Отчет о состоянии Екатеринбургской епархии за 1915 г. РГИА. Ф. 796 Оп. 442. Д. 2699. Л. 36—38; Справочная книга Екатеринбургской епархии на 1915 год. Екатеринбург, 1915. С. 16—22, 31, 43—44. Здесь и далее диаконы указаны совместно с протодиаконами.
Таким образом, среди городского духовенства значительно большую долю занимали протоиереи и меньшую – священники, что можно объяснить наличием нескольких соборов (которым протоиереи полагались по штату) с одной стороны и лучшими возможностями для повышения по службе с другой. Также наблюдается преобладание диаконов над псаломщиками.
В целом, служить в крупных городах, по-видимому, во все времена было престижно. Так, описывая ситуацию на Среднем Урале в первой половине XIX века, историки нашего времени отмечают следующее: «Наиболее богатыми считались городские приходы. Особенно важным было то, что с духовенством городских церквей расплачивались деньгами [а не натуральной оплатой], а потому оно располагало довольно значительными наличными средствами»244. Очевидно, что к началу ХХ века картина поменялась не сильно. Следует отметить и заметно более высокий уровень образованности городских клириков в целом.
Таблица 2.2
Уровень образованности духовенства в 1915 году*
* Составлено по: Отчет о состоянии Екатеринбургской епархии за 1915 г. РГИА. Ф. 796 Оп. 442. Д. 2699. Л. 36—38; Справочная книга Екатеринбургской епархии на 1915 год. Екатеринбург, 1915. С. 16—22, 31, 43—44.
Образовательный уровень духовенства напрямую влиял на размер получаемого им дохода. Так, в Екатеринбурге к 1917 г. имелось 10 учебных заведений Оренбургского учебного округа, в которых преподавателями Закона Божьего (и исполняющими должности таковых) числилось 15 священников. 14 из них одновременно состояли в городских приходах, получая жалование и по церковной службе. На размер годового преподавательского жалования влияли: должность, статус учебного заведения, стаж работы, количество преподаваемых часов. В учебных заведениях Екатеринбурга жалование для священников колебалось от 140 до 4130 руб. в год (см. табл. 2.3), в то время как их средний оклад на приходах епархии, согласно «Справочной книжке Екатеринбургской епархии», составлял 300 руб.
Таблица 2.3
Размеры окладов клириков-преподавателей
г. Екатеринбурга за 1915 год*
* Источник: Оренбургский учебный округ. Памятная книга на 1915 год. Уфа, 1915. С. 207—245.
Как правило, городские священнослужители дополнительно занимали и различные административные должности, которые также могли приносить весьма неплохой доход.
После прихода к власти большевиков ситуация изменилась самым кардинальным образом.
В 1917—1918 гг. вышло сразу несколько декретов советской власти, которые подорвали экономическое положение духовенства и резко понизили его социальный статус. В первую очередь это были декреты о земле и об отделении церкви от государства и школы от церкви.
Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» ударил, прежде всего, по священнослужителям, работавшим преподавателями в учебных заведениях. Теперь они подлежали увольнению, а также выселению из казенных квартир. Всем остальным клирикам (и служащим духовного ведомства) прекратилась выплата казенного жалования.
Кроме того, до революции клирики на приходах жили или в собственных или церковных домах или на съемных квартирах. Следствием декрета об отделении церкви от государства стало изъятие всех церковных домов для государственных учреждений. Собственные дома в дальнейшем, как правило, либо также изымались у владельцев, либо (в лучшем случае) к последним подселяли дополнительных жильцов.
Окончательное занятие Урала Красной армией в 1919 г. привело к массовому бегству населения вместе с отступавшими колчаковцами в Сибирь и на Дальний Восток. Масштаб «исхода» духовенства еще недостаточно исследован. По оценке, проведенной исследователем Гражданской войны на Урале А. М. Кручининым, накануне занятия г. Екатеринбурга красными, город покинула почти треть жителей: 26 тыс. из 83 тыс. (без учета населения пригородов, включенных в состав города позднее). Из 200 врачей осталось только 10; ушли почти все преподаватели горного университета и гимназий, большая часть музыкантов, артистов, деятелей театра; богатые и состоятельные люди245. Среди беженцев было немало и представителей духовенства. В дальнейшем некоторые из них вернулись; остальные либо умерли во время скитаний, либо перебрались в Китай, либо осели на территории Сибири.
Одним из тех, кто активно поддерживал белое движение, был известный в Екатеринбурге протоиерей Екатерининского собора Иоанн Сторожев – последний, кто совершил для царской семьи богослужение в особняке Ипатьева за два с половиной дня до ее убийства. Назначенный благочинным военного духовенства всех полковых частей Уральской области, он впоследствии эмигрировал с белой армией в Харбин246. Священник Симеоновской церкви-школы в Екатеринбурге Александр Лукин, который был откомандирован в распоряжение военного ведомства еще в 1916 году, будучи уже полковым священником в белой армии, в конечном итоге также оказался в Маньчжурии247.
Дабы заполнить вакуум, образовавшийся после ухода многих представителей духовенства с Колчаком, епархиальное начальство спешно и в большом количестве принялось рукополагать в священнический сан диаконов, псаломщиков, а также лиц, прежде вообще не состоявших на церковной службе (в основном из крестьян и мещан). Произведенный автором анализ клировых ведомостей за начало двадцатых годов по ряду приходов показывает, что уровень образования последних обычно ограничивался двухклассными школами Министерства народного просвещения, земскими школами, учительскими школами и учительскими семинариями, редко гимназиями. Родом их деятельности до вхождения в состав клира было по преимуществу преподавание. Удельный вес священнослужителей с семинарским образованием резко сократился.
В целом для приходского духовенства после Гражданской войны стало характерно значительное снижение образовательного уровня и профессиональных навыков. В кратчайшие сроки произошло фактическое разрушение той социальной группы, которая существовала до революции, и формирование нового духовенства, значительно отличавшегося по своему социокультурному портрету от прежнего.
При этом значительный приток в послереволюционные годы новых людей не привел к «омоложению» духовенства. Категория рукоположенных в священный сан в возрасте от 40 до 50 лет в 1919 г. из исключения стала нормой. В последующие годы тенденция к рукоположению немолодых ставленников сохранялась. В годы тотальной нехватки духовенства епископат был обеспокоен, прежде всего, не поиском «пассионариев», а «затыканием дыр» на конкретных приходах.
Все это (хотя и в несколько смягченной форме) было вполне свойственно и для духовенства г. Екатеринбурга (переименованного в 1924 г. в Свердловск). Отметим, что характерная для того времени нехватка источников, содержащих биографические сведения о духовенстве, делает исследование этого вопроса непростым. Наиболее репрезентативной здесь может считаться выборка, составленная на основании анкет из следственных дел периода Большого террора (когда репрессиям подверглось подавляющее большинство городского духовенства), которая была дополнена известными сведениями о клириках, избежавших ареста.
Таблица 2.4
Сравнительные характеристики духовенства
Екатеринбурга-Свердловска за 1915 и 1937 гг.*
Составлено по: Справочная книга Екатеринбургской епархии на 1915 год. Екатеринбург, 1915. С. 16—22, 31, 43—44; Авторская База данных репрессированного духовенства Урала.
Таким образом, за два десятка послереволюционных лет произошло резкое снижение образовательного уровня городского духовенства и его существенное «постарение». При этом почти на три четверти сократилась его общая численность (в частности, осталось лишь пятеро клириков, служивших в городе с дореволюционных времен), а такая группа, как псаломщики, здесь исчезла полностью. Последнее произошло, прежде всего, из-за сокращения клириков на приходах, ввиду ухудшения экономического положения последних. Кроме того, в результате массового закрытия церквей появилось большое количество «лишних» священников, которые стали выполнять, в том числе, и причетнические обязанности.
Отметим, однако, что сокращения численности архиереев в этот период не только не произошло, но, по причине образования нескольких церковных юрисдикций, она даже увеличилась. Так, если до революции в городе был лишь один архиерей – епископ Серафим (Голубятников), то к 1937 г. здесь их стало трое – «сергиевский» архиепископ Петр (Савельев), «обновленческий» митрополит Михаил (Трубин) и «григорианский» митрополит Петр (Холмогорцев)248.
Для характеристики повседневной жизни духовенства в двадцатые-тридцатые годы рассмотрим его доходы и жилищные условия.
Для сравнительного анализа денежных доходов духовенства нами были использованы данные епархиального справочника 1915 г. (фактически относящиеся к 1913 г.) и нескольких найденных в Центральном государственном архиве Удмуртской республики клировых ведомостей по Свердловской епархии за 1930—1931 гг. Ввиду совершенно разного уровня цен в первом и втором случаях ниже приведена сравнительная таблица цен на некоторые продукты для того и другого периода.
Таблица 2.5
Сравнительная таблица доходов духовенства
за 1913 и 1930—1931 гг.*
* Источник: Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1915 год. Екатеринбург, 1915; ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 5. Д. 169, 172, 173. ** Пересчитано исходя из указанной суммы доходов за неполный год.
Таблица 2.6
Сравнительная таблица цен на основные
продукты питания
* Источник: Терешкова М. Цены 1913 года в современных рублях [Электронный ресурс] // Красное место. URL: http://www.krasplace.ru/ceny-1913-goda-v-sovremennyx-rublyax (дата обращения: 05.11.2018); Курукин И., Никулина Е. Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. М.: Молодая гвардия, 2007; Справочник отпускных и розничных цен по г. Москве (1937 г., август).
Таким образом, если общие доходы причтов в 1930—1931 гг. в цифровом выражении представляли собой величины, более или менее соразмерные с 1913 г., то покупательная способность рубля при этом снизилась по меньшей мере в несколько раз, в зависимости от вида товара.
К сожалению, не удалось найти подобные данные по основным церквям Свердловска, где размер доходов, очевидно, был выше. Следует, однако, иметь в виду, что власть повсеместно проводила политику разорения духовенства, путем обложения его непомерными налогами. Отмечались случаи, когда налоги, начислявшиеся на доходы «служителей культа», превышали сами эти доходы.
Что касается низкого уровня обеспеченности жильем городского населения, то он являлся для тех лет вполне обыденным, и положение духовенства в этом плане ничем не отличалось в лучшую сторону. Так, правящий архиерей Екатеринбургской епархии, а с середины двадцатых годов глава «григорианского» раскола Григорий Яцковский, имевший в своем распоряжении до 1918 г. огромный архиерейский дом с множеством обслуживающего персонала, домовой церковью, надворными постройками и т. д., в 1932 г. проживал в одном из помещений Иоанно-Предтеченской церкви, жилой площадью 10 кв. м. Вместе с ним в других помещениях церкви проживало еще четыре человека. При этом размер жилой площади архиерея продолжал оставаться самым большим среди городского духовенства, превышая средний уровень более чем в два раза.
На основании переписи домовладений г. Свердловска нами была составлена выборка, показывающая уровень жилищных условий духовенства на начало 1930-х гг.
Таблица 2.7
Уровень жизни духовенства, согласно результатам
переписи домовладений г. Свердловска
за 1932 год
* Источник: ГАСО. Ф. Р-286. Оп. 1. Д. 179. Л. 2—2 об.; Д. 206. Л. 12—12 об.; Д. 264. Л. 12—12 об.; Д. 283. Л. 12—12 об.; Д. 295. Л. 4—4 об.; Д. 313. Л. 4—4 об.; Д. 480. Л. 4—4 об.; Д. 517. Л. 33—33 об.; Д. 532. Л. 31—31 об.
Как явствует из материалов переписи, средний размер жилой площади на одного члена семьи клирика составлял менее пяти квадратных метров. Если среди «служителей культа» и оставались владельцы собственных домов, то в результате подселения к ним дополнительных жильцов они были поставлены в равное с квартиросъемщиками положение. Для сравнения укажем, что в 1934 г. средняя жилая площадь на одного человека в поселке ВИЗ составляла 5,6 кв. м.249
Вернемся к вопросу о численности городского духовенства. В 1915 г. в Екатеринбурге (включая населенные пункты, вошедшие в его состав в дальнейшем) насчитывалось 93 приходских клирика (см. табл. 2.1).
Согласно спискам лишенных избирательных прав за 1924—1925 гг., количество духовенства Свердловска составляло тогда 58 священнослужителей (35 священников и 23 диакона) и 10 псаломщиков. Согласно данным Всесоюзной переписи, в 1926 г. в Свердловске проживало 55 священнослужителей и 11 псаломщиков, из которых одна женщина250. Кстати говоря, появление женщин-псаломщиц стало одной из наиболее серьезных перемен, происшедших в церковной практике в послереволюционный период. Но для крупных городов это являлось скорее исключением.
Согласно списку граждан, лишенных избирательных прав, к 1935 г. в Свердловске проживало около 30 священно-церковнослужителей251, в т. ч. 3 епископа, 26 священников и диаконов (из них четыре значились как «бывшие»), 1 псаломщик. Отметим, что эти цифры неплохо согласуются со сводными данными на 1937 год, представленными в таблице 2.5252.
Таким образом, с 1926 по 1935 гг. духовенство в г. Свердловске сократилось на 44 человека: часть их была репрессирована, убыль остальных связана с оставлением служения в церкви, в связи с уходом за штат или снятием сана (из-за закрытия приходов), переводами на другие места, смертью по естественным причинам. После этого, в 1935 г., в Свердловске было репрессировано 6 клириков, а во время Большого террора 1937—1938 гг. – еще 32 священнослужителя (включая архиереев, протоиереев, священников, диаконов), что составляло подавляющее большинство проживавшего тогда в городе духовенства253.
Общая динамика изменения численности свердловского духовенства отражена на рис. 1.
Таким образом, Большой террор привел к практическому исчезновению городского духовенства как социальной группы, а последующие принятые властями меры довели дело до логического завершения – в 1941 г. в Свердловске не осталось ни одного служащего клирика Православной Церкви.
Великая Отечественная война заставила власть серьезно пересмотреть свою внутреннюю политику. Тотальная антирелигиозная кампания вскоре была свернута, а в 1943 г. руководство большевистской партии и советского государства и вовсе решило «повернуться лицом» к церкви и верующим. В результате начался медленный численный рост свердловского духовенства: в 1942 г. оно состояло из двух человек, в 1945-м – из восьми, не считая архиерея254. В 1953 г. на городских приходах служило уже 5 протоиереев, 4 священника и 4 диакона255.
Рис. 1 – Изменение численности священнослужителей г. Свердловска
Дальнейшему увеличению численности духовенства препятствовало то, что в городе в то время действовало всего две церкви, открытия новых не происходило. А после того, как в 1961 г., в ходе «хрущевских» гонений на религию, осталась лишь одна из них (кладбищенская Иоанно-Предтеченская), процесс и вовсе оказался заморожен на три десятилетия. Подлинное возрождение церковной жизни в городе (и по стране в целом) стало осуществляться лишь с конца восьмидесятых годов, в результате начавшихся в обществе коренных перемен.
243
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия… С. 21—22.
244
Мангилева А. В. Духовное сословие на Урале в первой половине XIX в. (на примере Пермской епархии). Екатеринбург, 1998. С. 172.
245
Кручинин А. М. Белый Екатеринбург (1918—1919): армия и власть. Екатеринбург, 2018. С. 289—290.
246
Известия Екатеринбургской Церкви. 1918. №14. С. 259—260.
247
Из епархиальной жизни // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1916. №28. Отд. неофиц. С. 231; Демаков И. Н. Русская Православная Церковь в Маньчжурии: страницы истории // Православие на Урале: связь времен: материалы IV межрегион. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2015. С. 65.
248
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия… С. 154, 161.
249
Лыжин С. М. Принципы формирования структуры жилищного фонда крупнейшего города (на примере Екатеринбурга) // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2009. №2. С. 79.
250
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия… С. 51.
251
Не включены старообрядцы.
252
Список лишенных права голоса по г. Свердловску 1934—1935 г. ГАСО. Ф. Р-286. Оп. 3. Д. 442. Л. 1—46.
253
Авторская база данных репрессированного духовенства Урала.
254
По данным, предоставленным протоиереем В. Лавриновым.
255
ГАСО. Ф. Р-2788. Оп. 1. Д. 73. Л. 2—3об.