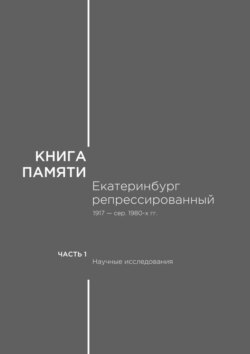Читать книгу Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть I. Научные исследования - В М Кириллов - Страница 8
Глава 3. Лишение избирательных прав граждан в 1920—1930-е гг. как инструмент негативной социальной селекции
3.2. Процесс восстановления в избирательных правах (А. П. Килин)
ОглавлениеВключение в списки «лишенцев» происходило оперативно; напротив, процесс восстановления был длителен и сложен. Необходимо было пройти административную процедуру и выполнять целый ряд условий, среди которых был своего рода «карантин», т. е. пятилетний стаж общественно полезного труда после прекращения неблагонадежной деятельности. Восстановление в избирательных правах напоминало судебную процедуру, пусть и осуществляемую в заочной форме, в рамках которой человек должен был доказать, что лишен избирательных прав незаконно, или, если лишение было законным, обосновать возможность своего восстановления (доказать лояльность советской власти, подтвердить пятилетний трудовой стаж и т. п.). Таким образом, доминировала презумпция виновности человека, который был вынужден самостоятельно доказывать свою невиновность. Отправной точкой на этом пути было заявление «лишенца» о восстановлении в правах.
Предполагалось, что личное дело гражданина, возбудившего ходатайство о восстановлении в избирательных правах, должно включать в себя комплекс документов, с точки зрения членов избирательной комиссии необходимых и достаточных для вынесения окончательного решения. На основе происхождения и по тематическому признаку весь комплекс документов, содержащийся в личном деле, можно подразделить на несколько групп: 1) заявление (жалоба, прошение, обращение) гражданина; 2) сопроводительные документы, собранные и предоставленные самим заявителем, призванные подтвердить изложенные в заявлении факты; 3) материалы избирательной комиссии (решения, выписки из протоколов, запросы в сторонние организации, анкеты); 4) документы сторонних организаций, собранные по инициативе избирательной комиссии (характеристики и рекомендации, финансово-хозяйственные документы, медицинские справки и акты освидетельствования пациента, материалы кадрового делопроизводства, копии записей актов гражданского состояния)192.
Наиболее информативным документом в личном деле является заявление гражданина, с включенными в него биографическими данными, как единичные случаи могут встречаться автобиографии в качестве самостоятельного документа.
В основу изложения материала заявителем был положен хронологический принцип, поэтому структура автобиографии вполне традиционна. Однако, помимо хронологической канвы, в текстах автобиографий можно выделить три линии повествования: «историческая», «личностная» и «торговая», последняя непосредственно связана с лишением избирательных прав.
Первая, «историческая», построена на описании наиболее значимых событий и соответствует общепринятой периодизации: до октября 1917 г., в годы Гражданской войны, в период нэпа и на стадии его свертывания. Эта периодизация была задана содержанием анкет, которые предлагали заполнить заявителям. Отдельные исторические события могли занимать достаточно большое место в биографии человека, а могли игнорироваться, в зависимости от того, насколько активно гражданин был в них включен.
«Личностная» линия построена на описании собственно биографии гражданина. Периодизация отражает этапы жизненного цикла: детство, юность, взросление, зрелость, старость. За основу берутся значимые с точки зрения «лишенца» события:
– рождение и связанное с ним социальное происхождение;
– учеба и, соответственно, уровень образования и политической грамотности;
– семейное положение как фактор социального окружения и стимул к труду (особенно для глав семьи с большим количеством иждивенцев);
– служба в армии (царской, белой, красной) с различными, порой взаимоисключающими оценочными характеристиками этого периода жизни;
– отдельные факты биографии (безработица, болезнь, инвалидность, переезд в другую местность и т. п.).
Наиболее детально описывается «торговая» сюжетная линия, в которой излагаются обстоятельства, связанные со статусом торговца (причины начала и прекращения торговли, ее характер), а также лишение избирательных прав и его последствия. Таким образом, в основу этой линии положен факт торговли («до», «во время» и «после» торговой деятельности). Напомним, что частные торговцы, как профессиональные, так и те, для кого это было временным занятием, составляли большинство среди тех, кто обращался в органы власти с заявлением о восстановлении в правах.
На дооктябрьский период делается акцент в биографиях национальных меньшинств (инородцев, нацменов) и представителей неправославных конфессий (иноверцев). В большинстве биографий этот период рассматривается как пример тягот, связанных как с этническим, так и с пролетарским происхождением автора, как время жестокой эксплуатации со стороны имущих классов (купца, владельца магазина и т. п.). Эти сюжеты призваны продемонстрировать низкий социальный статус или оппозиционность гражданина при «царском режиме», доказать факты дискриминации. Порой революция и Гражданская война уходят на второй план или совсем исчезают из поля зрения автора, который говорит только о тех обстоятельствах, которые касаются его непосредственно. В рассмотренных нами делах практически «прозрачными» являются революционные события 1917 г., сюжеты, связанные со сменой власти. По всей видимости, это объясняется тем, что заявители были слабо вовлечены в политические процессы. Единственное событие, которое достаточно часто упоминается и которое можно отнести на счет уральской специфики, – это описание наступления и отхода войск адмирала А. В. Колчака.
Наибольшее значение в биографии гражданина имели события, служащие основанием для восстановления в избирательных правах (служба в Красной армии, пятилетний стаж трудовой деятельности после окончания торговли, членство в профсоюзе). Эти факты биографии призваны продемонстрировать лояльность гражданина к советской власти, подчеркнув при этом незаслуженное ограничение его в правах. Такая подача материала должна была показать противоречие и явную несправедливость, при которой человек сохранял низкий социальный статус как до, так и после октября 1917 г.
Этот прием можно рассматривать как манипуляцию, способ психологического давления на членов избирательной комиссии, так как противопоставление с дореволюционным прошлым было излюбленным приемом официальной пропаганды, и любые сопоставления не в пользу нового строя могли рассматриваться как скрытая форма протеста. Оппозиционность официальной власти подчеркивалась при упоминании фактов из биографии до 1917 г., напротив лояльность Советской власти была отправной точкой при изложении материала «советского периода». По этой схеме «минусы» до 1917 г. должны были трансформироваться в «плюсы» после октября 1917 г.
Примечательно, что особый акцент, как со стороны заявителей, так и со стороны членов избирательной комиссии, делался на оценке «лояльности» гражданина, хотя точность определения этой категории порой оспаривается. П. И. Перевощиков в своем заявлении пишет: «Президиум четвертого райсовета по моему ходатайству о восстановлении в правах гражданства отказал, мотивируя, что я не проявил лояльности к советской власти, как я ее мог проявить и выставить на вид, чтоб об этом знали члены комиссии, я не знаю. Я знаю, что вообще честно работал, нигде взысканиям и выговорам не подвергался, хотя как инвалид первой группы, освобожденный экспертизой на один год от работы, я все же продолжал работать»193.
Анализ автобиографий «лишенцев» подтверждает вывод о том, что «историзация» индивидуальной памяти (воспоминаний) наблюдается в двух формах: во-первых, придание индивидом социальной значимости автобиографическим событиям своей жизни; во-вторых, увязывание индивидуальной автобиографии с социально значимыми («историческими») событиями194.
При анализе биографий обращает на себя внимание сочетание динамики исторических изменений со статикой жизненной траектории, «пробуксовка» судьбы человека. С одной стороны, за короткий промежуток времени, буквально за несколько десятилетий, перед нами разворачивается калейдоскоп исторических событий, количества которых с избытком хватило бы на несколько человеческих жизней. С другой – все эти изменения не приводят к положительной динамике, карьерному росту, развитию личности. Этот вывод вытекает из специфики данного типа источника – личного дела «лишенца». Совершенно очевидно, что рассмотрение, например, наградных материалов сформировало бы у исследователя более оптимистическую историческую картину.
Порой наивысший уровень социально одобряемого поведения авторы биографий напрямую связывают с пролетарским происхождением (родился в бедной крестьянской семье, сын пролетария), т. е. с событиями до октября 1917 г.
В советский период можно говорить о некоей положительной динамике, связанной с обучением, с периодом трудовой деятельности или службой в Красной армии. Период 1920-х гг. описывается в предельно драматических тонах, схожих с оценками, которые в современной публицистике применяются к «лихим девяностым». Экономическое и отчасти идеологическое разнообразие, ослабление государственного регулирования, а также уклонение власти от выполнения ряда социальных функций, которые она не в состоянии была выполнять из-за дефицита ресурсов, предопределяли необходимость выбора и создавали почву для экономической автономии личности. Бремя выбора всегда тяжело, а к экономической самостоятельности не все были готовы. Сделав рациональный выбор в пользу материального благополучия членов своей семьи, занимаясь частным предпринимательством, человек совершал ошибку в идеологической системе координат. Именно в годы нэпа происходит «грехопадение» гражданина, под воздействием внешних, как правило, не зависящих от воли индивида объективных обстоятельств (безработица, голод, большая семья).
Вслед за дискриминацией была необходима реабилитация. С точки зрения права, под реабилитацией понимается официальное восстановление в прежних правах, восстановление чести и репутации опороченного лица. В этом контексте восстановление в избирательных правах рассматривается как возможность возвращения к прежнему социальному статусу, к ситуации status quo, предполагающей реабилитацию гражданина. Таким образом, жизненная траектория оказывается замкнутой, в ней отсутствует положительная динамика. В качестве основного тренда биографии демонстрируют нисходящую социальную мобильность.
В заявлении С. И. Шишалова195 говорится: « […] решительно ничего не имею, что в жизни своей я перенес очень многое и по справедливости в настоящий период торжества трудящихся я первый должен был бы быть на пиру, но я по несознательности, политической неграмотности это свое первородство променял на чечевичную похлебку, пошел торговать, опять-таки, я повторяю, меня толкнуло [на] это тяжелое материальное положение и совращенье выгодным предложеньем, что я считаю безвинным, так как закон разрешает заниматься этим делом, что вину эту свою я осознал и больше на этот путь не вернусь. […] Мой послужной формуляр не блещет заслугами, но моя жизнь, зато, полна страданий и, может быть, вы к моим страданиям отнесетесь с пролетарской чуткостью и мое ошибочное отступление зачеркаете, приняв меня в ряды и семью трудящихся»196.
Использование образов «искушения» и «грехопадения», наличие религиозных мотивов в заявлениях может быть объяснено как характером дореволюционного образования, так и сложившейся устной традицией, которая в столь короткий срок не могла быть в полной мере замещена новым «советским» языком.
Возможно, по мнению авторов биографий, жанр покаяния или исповеди подразумевал именно такую лексику. Терминология зачастую заимствовалась из речей партийных лидеров, широко распространяемых через периодическую печать. Так, о «пролетарском первородстве» говорил Н. И. Бухарин, когда описывал перспективы сосуществования советской экономики и мирового хозяйства197.
По мнению Г. Алексопулос, эта стилистика является отголоском обычного права: «Жалобы изгоев и ответы советских чиновников на них иллюстрируют сохранение обычного права, в котором ценятся жалость и смирение, а также неформальность, привлекающая внимание к особенностям жизни и деятельности людей»198. Таким образом, обычное право и формальные юридические нормы, «революционная законность» и традиции формировали живописную и контрастную палитру правового плюрализма.
Тексты биографий свидетельствуют о проблеме профессиональной самоидентификации заявителей. Быть торговцем для них означало не только относиться к определенной профессиональной группе. Как правило, под термином «торговец» подразумевалось нечто большее. Даже признавая сам факт торговли, гражданин дистанцировался от слоя профессиональных торговцев, крайне негативно характеризуя своих коллег по цеху. В сводках ОГПУ по Тобольскому округу находим пример градации продавцов на «торговцев» и «торгашей»: «В деятельности частной торговли, вольного рынка можно отметить, что сами торговцы указывают на большое развитие торгашей (выделено нами. – А. К.), которых распространилось больше, чем покупателей и говорят, что с таким ростом торговцев продавать товар будет некому»199.
Даже выбирая патент на занятие торговлей, заявители, по сути, не отождествляли себя с торговцами на вполне законных основаниях, например, в ситуации, когда сотрудники финансовых или правоохранительных органов вынуждали брать патент крестьянина, который реализовывал на рынке продукцию своего хозяйства. Грань между профессиональными торговцами и людьми, занимающимися ею в качестве дополнительного промысла, была весьма условной.
Критерием, который предлагалось использовать при отделении «настоящих» торговцев от «ненастоящих», являлся факт эксплуатации чужого труда, т. е. очевидно стремление избежать дискриминации исключительно по профессиональному признаку. В заявлении одного из «лишенцев» читаем: «Лишать избирательного права настоящего нэпмана, это другое дело. Настоящий нэпман живет исключительно спекуляцией чужого труда»200. Примечательно «переключение» в применении термина «спекуляция» с перепродажи товаров на использование наемного труда.
Революция влечет за собой радикальную ломку, трансформацию социальной структуры общества, порождает конфронтационное мышление и детерминирует процесс формирования собственной идентичности, основанной на противопоставлении старого и нового, добра и зла, героя и антигероя. В идеологии большевизма странным образом сочетались детерминизм, фатум, рок, обусловленный социальным происхождением индивидуума, с одной стороны, и концепция формирования нового человека, предусматривавшая возможность социального, классового перерождения, с другой201.
Это наблюдение вполне согласуется с выводом, который сделал А. Гершенкрон относительно противоречивости доктрины большевиков: «Официальная идеология в России представляет собой некое странное сочетание различных принципов, которые служат лишь для оправдания проводимой политики, практически не имеющей никакого отношения к исходной марксистской идеологии»202.
Авторы биографий, конструируя свое видение ситуации, ориентировались на идеологический шаблон «советского человека». Это был гражданин, имеющий безукоризненное пролетарское происхождение, незапятнанную биографию и отличные личностные характеристики, идеологически выдержанный, наделенный всей полнотой прав, принимающий активное участие в строительстве социализма, работающий в обобществленном секторе хозяйства, его не страшит безработица. Все эти характеристики давали основание для включения его в систему централизованного распределения материальных и культурных благ. Идеал, который брался за основу, в действительности не существовал. В результате возникал конфликт, порожденный несоответствием между ожидаемым и реальным положением вещей.
Противоположный этому прием используют авторы, когда соотносят свою биографию с судьбой «антигероя» («бывший», «контрреволюционер», «нэпман» и т. п.). Образ антигероя, в отличие от героя, не был столь абстрактен и недосягаем. Порой это были близкие автору люди, на которых он переносил часть ответственности за свое «грехопадение». В тексте биографий авторы порой стремятся отстраниться, дистанцироваться от членов своей семьи (родителей, жены, мужа), занимавшихся торговлей.
А. П. Востров203 писал: «Лишен же я избирательных прав только потому, что бывшая жена моя – К. Н. Вострова, с которой я уже три года не живу и формально разведен с 1927 г. (см. справку ЗАГСа), и которая теперь уже несколько лет снова вышла замуж за другого и не живет в г. Свердловске, а в г. Павлодаре, занималась торговлей. Я же совладельцем ее дела не был, и на ея средства не жил, так как имел свой заработок, работая, как кустарь-пиротехник, в городских садах и других культурных организациях. В личной жизни с моей бывшей женой Кл. Н. Востровой тоже у меня не было почти ничего общего, так как я не мог ужиться с ея: как идеологией, так и с ея взглядами, вследствие чего и развелся с нею»204.
Основной причиной занятия частной торговлей, по официальной версии, распространяемой пропагандой, являлась жажда наживы, но этот тезис неоднократно оспаривается авторами биографий. Реальная мотивация к занятию торговлей, по мнению «лишенцев», была вызвана необходимостью выживания, адаптации к неблагоприятным условиям, желанием повысить (точнее восстановить) уровень благосостояния после экстремального периода войны и голода.
Стремление «включиться» в советскую систему координат требовало как обоснования причин занятия торговлей (как правило, вынужденных), так и создания образа лояльного и законопослушного гражданина, пусть и запятнанного неблаговидной («преступной») деятельностью.
Авторами подчеркивалась ценность отдельных эпизодов их биографий, как реальных, так и потенциально возможных, но не случившихся, что позволяет маркировать эти характеристики как социально значимые. Встречаются перечисления того, что могло произойти, могло быть сделано, но не произошло с гражданином (под судом не был, у белых не служил, наемный труд не использовал, с Колчаком не ушел, не спекулировал, не имел долгов по налогам и т. п.).
По мнению Г. Алексопулос, «для многих было предпочтительнее и легче приобрести советскую идентичность риторически, так сказать, переосмыслив прошлое или подчеркнув то, чего никто не делал […] подчеркивалось отсутствие каких-либо судимостей или причастность к контрреволюционной деятельности и своевременная уплата ими всех налогов и сборов»205.
В процессе самоидентификации авторы автобиографий использовали традиционные шаблоны, при этом доминировали архаичные представления о праведности тяжелого труда, связанного с материальным производством; напротив, торгово-посредническая деятельность криминализировалась. Занятие торговлей «списывали» на негативное влияние «несознательных» членов семьи, а право на восстановление обосновывалось родством c «пролетарски безупречными родственниками».
Г. Алексопулос пишет: «В своих ходатайствах некоторые из лишенных гражданских прав ссылались на членов семьи, которые имели хороший советский профиль, и перечисляли общественно полезную деятельность родственников. Те, кто отстал в осуществлении личной трансформации, надеялись на поддержку политически не по годам развитой семьи и демонстрировали лояльность и общественно полезный труд через мужей, родителей и детей. Семейные отношения часто стигматизируются, но они также могут быть реабилитационными. Супруги играют важнейшую роль в реабилитации, независимо от того, несут ли они ответственность за утрату гражданских прав. Женщины всегда упоминают своих мужей в петициях, а мужья иногда делают полезные ссылки и на своих жен. В своем ходатайстве уральский мужчина отметил благоприятную идентичность своей супруги, хотя и был лишен гражданских прав за свою деятельность»206.
Авторы выбирали оборонительные или наступательные стратегии для достижения поставленной цели. Абсолютное большинство выступало с «покаянием», не оспаривало обоснованности лишения избирательных прав, использовало уничижительные самооценки. Другие, напротив, активно отстаивали свою позицию, доказывая неправомерность лишения избирательных прав. В качестве аргументов совершенно справедливо приводились ссылки на то, что частная торговля была разрешена, что члены избирательной комиссии слишком вольно трактовали положения инструкции о выборах и лишали прав тех, кто не должен был подпадать под эту санкцию (безработные, инвалиды, мелкие производители, сбывающие продукцию собственного производства и т. п.). Приводились примеры, когда лишение избирательных прав использовалось для сведения личных счетов.
В. И. Лагуткин207 так оценивал свое положение: «Исходя из вышеизложенного, я имею право претендовать на ту обиду, которая наносится мне к концу ликвидации частной торговли вообще: лишившись своего дела [он занимался продажей книг. – А. К.], а также и средств, находившихся в моем распоряжении, я, естественно, должен где-то работать, но и этой прелести я как лишенец получить нигде не могу. Несмотря на то, что мной сделаны попытки работать не только по своей специальности, но и по другим видам работ, где меня, как лишенца, снимают с работы и для наглядности прилагаю удостоверение о моей работе, с которых я снят […] Скажите, какое преступление мной сделано? И заявляю, если я действительно являюсь преступным элементом, отдайте под суд и если заслужил, то расстреляйте. Это будет лучшая расплата за свой грех, чем быть манекеном и быть заживо погребенным в тот момент, когда есть работа и нужны люди. Еще раз настоятельно прошу восстановить в правах гражданства, чтобы я мог еще поработать на этом культурно-просветительном фронте»208.
Специфика биографии В. И. Лагуткина заключается в том, что переход из крестьян в торговцы произошел еще до революции, а реализация книжной продукции рассматривалась им как вполне престижная и социально-значимая, а не ущербная или дискриминируемая. Деградация социального статуса произошла резко и повлекла за собой необходимость быстрой адаптации к новым условиям в непривычной для него роли. Состояние здоровья и психологические перегрузки привели к печальному финалу. Трагизм ситуации подчеркивается тем обстоятельством, что последнее решение комиссии облисполкома об отказе в восстановлении избирательных прав было принято уже после смерти заявителя, который скончался в психиатрической больнице. Это решение было принято по прежним материалам дела и не учитывало то обстоятельство, что душевнобольные, при наличии медицинского освидетельствования, лишались избирательного права.
Спектр негативных оценок частной торговли широк – от глупости и «заразы» до греха и уголовного преступления, несмотря на то, что частная торговля в 1920-е гг. была легальной, осуществлялась с санкции государства на основании патента и облагалась налогами (как регулярными, так и экстраординарными).
Авторы, ищущие справедливости, апеллируют к исторической памяти адресата, напоминают о той ситуации, которая привела к легализации частного предпринимательства, и подкрепляют свою позицию ссылками (пусть и не всегда точными) на нормативно-правовые акты.
«Реабилитационный механизм, – по мнению Г. Алексопулос, – формировал особый диалог между гражданами и государством. У новоиспеченных граждан появились определенные представления и ожидания относительно советской власти. Например, процесс предоставления прав побуждал некоторых заявителей апеллировать к понятию справедливости при советской системе […] Кроме того, восхваляя сострадание и справедливость советского режима, лишенные гражданских прав лица призывали советских чиновников отстаивать свои собственные стандарты, удовлетворять просьбу просителя или рисковать, выглядя лицемерными»209. В этой связи можно вспомнить основное требование правозащитников к советским властям: «Соблюдайте свои законы».
С целью социальной реабилитации бывшие торговцы были вынуждены начинать с нуля, с низкоквалифицированной и грязной работы. В конъюнктурных обзорах кредит-бюро отмечается: «Ушедший с рынка частник, в связи с неблагоприятной для него конъюнктурой, держит себя крайне осторожно. Достаточно сказать, что многие частники работают на черных работах, на которые неохотно идут даже рабочие с биржи. Работа эта состоит главным образом из распилки дров, поставки каменного угля и т. п. Идя на эту работу, частник имеет в виду зарекомендовать себя в качестве общественно полезного работника с тем, чтобы впоследствии перейти на более легкую работу. Кроме того, частники руководствуется моментами фискального характера – представить себя неимущими для органов фиска»210.
В биографиях бывших торговцев описываются все тяготы такого труда, к которому многие по состоянию здоровья или ввиду пожилого возраста были не приспособлены.
Судьба человека в делопроизводственной переписке выглядит рутинно и буднично, очевидно, что трагизм положения могли в полной мере оценить лишь близкие человеку люди. Трагедия «маленького человека», его персональная катастрофа весьма наглядно характеризует эпоху и дополняет наше представление о периоде новой экономической политики. Образно и одновременно адекватно это настроение передал И. В. Нарский, рассматривая жизнь населения Урала в 1917—1922 гг.211. Отметим, что и последующий этап отечественной истории, предшествующий периоду массовых репрессий 1930-х гг., был полон трагизма. Лишение избирательных прав и дискриминация гражданина, которые приводят к его болезни, преждевременной смерти или самоубийству, вряд ли могут рассматриваться как исключение или единичный случай.
Стремление восстановить свои гражданские права было предопределено не только социально-политическими, но и экономическими причинами. Пока доход, извлекаемый из торговой деятельности, позволял обеспечивать себя самостоятельно, более высокие моральные и материальные издержки (в т. ч. связанные с лишением прав, неучастием в выборах и более высокими затратами на самообеспечение, приобретением товаров на рынке, более высокой арендной платой, повышенным уровнем налогообложения) признавались допустимыми. По мере того как торговля переставала покрывать издержки на содержание себя и членов своей семьи (возрастали материальные издержки, а доходность падала), становилась нелегальной, либо появлялись альтернативы на рынке труда, усиливалось стремление прекратить торговлю. С ликвидацией многоукладной экономики нэпа исчезали альтернативы для самозанятости, а статус «лишенца» являлся препятствием для получения работы в обобществленном секторе.
Занятие торговлей приводило к изменению социального статуса индивида в идеологической и политической системе координат. Можно говорить о двухступенчатой нисходящей мобильности: производитель (рабочий, крестьянин) становился частным торговым посредником («спекулянтом»), а затем лишался избирательных прав, переходил в категорию «неполноправных свободных». Падение было стремительным, напротив, восстановить свой статус, реабилитироваться было намного сложнее, и «восходящая мобильность» требовала больших затрат времени и сил.
Диктатура, используя механизм террора, дискриминируя отдельные социальные группы, преследовала несколько целей. Помимо устрашения всего населения, репрессии позволяли перенаправить внимание дискриминируемых групп с будущего на прошлое. Вместо отстаивания своих прав, требований привести в соответствие их экономический и политический статус, человек стремился вернуть то, что потерял, восстановить status quo, возвратить утраченное, включиться в сконструированные для него социальные рамки, стать «как все», реабилитироваться212. Даже несовершенная и ущербная социальная модель поведения становилась желанной, к ней стремился «лишенец». Таким образом, биографии бывших торговцев демонстрируют отрицательную социальную динамику или социальную статику.
Материалы биографий частных торговых предпринимателей подтверждают вывод о тенденции политической маргинализации наиболее активных в экономической сфере индивидуумов в раннесоветском обществе. В этой связи можно говорить о негативной социальной селекции. «Негативной» с точки зрения прав и свобод личности, возможности ее автономного существования.
П. Сорокин связывал этот процесс с экстремальными историческими периодами – войнами и революциями, но эти процессы были характерны и для относительно мирного периода нэпа. «Для исторических судеб любого общества далеко не безразличным является: какие качественно элементы в нем усилились или уменьшились в такой-то период времени. Внимательное изучение периодов расцвета и гибели целых народов показывает, что одной из основных причин их было именно резкое качественное изменение состава их населения в ту или другую сторону. Изменения, испытанные населением России в этом отношении, типичны для всех крупных войн и революций. Последние всегда были орудием отрицательной селекции, производящих отбор „шиворот навыворот“, т. е. убивающей лучшие элементы населения и оставляющей жить и плодиться „худшие“, т. е. людей второго и третьего сорта»213.
Особое место в социальном конструировании раннесоветского общества занимала процедура лишения и восстановления в избирательных правах. Лишая своих граждан избирательных прав во внесудебном и массовом порядке, власть давала населению сигнал о том, какая модель поведения являлась одобряемой, а какая порицалась. В биографиях «лишенцев» отчетливо проступает как идеализированный образ «нового человека», который должен служить образцом и идеалом, так и образ антигероя, от которого заявители стремятся любыми способами дистанцироваться. Парадокс заключался в том, что идеальный образ не существовал в реальности, что порождало когнитивный диссонанс в сознании гражданина. Напротив, «антигерой» был материализован и вполне реален, а в большинстве случаев к таковым относились родственники, близкие и знакомые просителя (отец, мать, жена, муж). Для «лишенца» было важно не только то, что он реально делал, но и то, что он мог бы совершить, но не сделал. В последнем случае за основу негативного поведения брался образ «антигероя».
Стремление дистанцироваться от собственного прошлого, декларировать новую идентичность можно считать реальным продуктом социального конструирования. В этом случае заявитель описывал себя в категориях, предписанных господствующими идеологическими установками и нормативными актами, стремился на словах порвать со своим прошлым и своим окружением.
Ликвидация многоукладности привела к изменению социальной структуры общества. Автономность личности в условиях советской России оказывалась, как минимум, проблематичной. Говорить о подлинной самостоятельности можно только при наличии собственной экономической базы, автономного источника материальных благ, например, в рамках натурального, мелкотоварного или частнопредпринимательского укладов. Проблема существования «замкнутого круга частного сектора хозяйства», которая активно обсуждалась в 1928—1929 гг., продемонстрировала стремление властей ликвидировать частный сектор, в котором видели угрозу советскому строю, напрямую связывали его с контрреволюцией214.
В раннесоветском обществе доминировали патрон-клиентские отношения, культивировался патернализм со стороны государства, насаждался повсеместный, тотальный контроль над гражданами, в том числе и через систему распределения. Эти обстоятельства создавали условия, при которых частные предприниматели вытеснялись из легальных хозяйственных связей, исчезали совсем, либо пополняли ряды представителей теневого сектора экономики.
192
Килин А. П. Автобиографические сведения в структуре личного дела гражданина, возбудившего ходатайство о восстановлении в избирательных правах, лишенных за занятие торговлей // Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. №433. С. 70—77.
193
ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 6013. Л. 3.
194
Савельева И. М., Полетаев А. В. «Историческая память»: к вопросу о границах понятия // Феномен прошлого. М.: ГУ—ВШЭ, 2005. С. 188.
195
Шишалов Семен Ильич, проживал в г. Свердловске по ул. Сакко и Ванцетти, д. №4, кв. 1.
196
ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 9181. Л. 2—2об.
197
Бухарин Н. И. Партия и оппозиция на пороге XV съезда партии. Доклад на собрании актива Ленинградской организации ВКП (б) 26 октября 1927 г. // Бухарин Н. И. Избранные произведения. М., 1988. С. 333.
198
Alexopoulos G. Stalin’s Outcasts… p. 126.
199
ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 77. Л. 110.
200
ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 556. Л. 27.
201
«Новый человек»: проект и процесс конструирования // Раннесоветское общество как социальный проект, 1917—1930-е гг.: монография: в 2 ч. Ч. 2: Советское общество: культура, сознание, поведение / Коллектив авт.; под общ. ред. Л. Н. Мазур; М-во науки и высш. образования, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. С. 180—328.
202
Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе / А. Гершенкрон; науч. ред. А. А. Белых; пер. с англ. А. В. Белых. Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. С. 275—276.
203
Востров Александр Петрович, проживал в г. Свердловск, Северная ул., №д. 14.
204
ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 1503. Л. 5.
205
Alexopoulos G. Stalin’s Outcasts… p. 144—145.
206
Alexopoulos G. Stalin’s Outcasts p. 141.
207
Лагуткин Василий Иванович, проживал в г. Свердловск, Верх-Исетск (ВИЗ), ул. Нагорная, д. 32, кв. 1.
208
ГАСО. Ф. 88-р. Оп. 6. Д. 4289. Л. 15об.
209
Alexopoulos G. Stalin’s Outcasts… p. 154.
210
РГАЭ. Ф. 7624. Оп. 1. Д. 127. Л. 110.
211
Нарский И. В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917—1922 гг. Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001.
212
Килин А. П. Автобиография как средство реабилитации: на материалах личных дел «лишенцев» // Диалог со временем. 2018. №63. С. 267—288.
213
Сорокин П. А. Современное состояние России / Питирим Сорокин. Прага: Тип. «Лингва», 1922.
214
Килин А. П. Мобилизационная экономика в борьбе с «замкнутым кругом частного сектора хозяйства». С. 56—63.