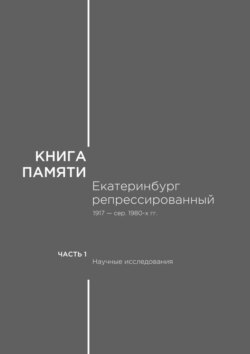Читать книгу Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть I. Научные исследования - В М Кириллов - Страница 6
Глава 2. Террор в годы Гражданской войны
2.2. Екатеринбургский концлагерь №1: история, контингенты, социальный состав репрессированных (С. И. Константинов)
ОглавлениеОктябрьская революция 1917 г. отвергла большинство ранее используемых правовых норм, и новая государственная власть была поставлена перед проблемой формирования нового пенитенциарного законодательства. В мае 1918 г. был создан Центральный Карательный Отдел Народного Комиссариата юстиции, который «начал организовывать производительный труд» заключенных. По приказу Л. Д. Троцкого от 4 июня 1918 г. начинают создаваться концентрационные лагеря, которые законодательно были оформлены во «Временной инструкции о лишении свободы» от 23 июля 1918 г.132.
16 июня 1919 г. Постановление ВЦИК определило организацию лагерей принудительных работ. Она возлагалась на губернские чрезвычайные комиссии (Губчека). Во всех губернских городах в указанные в особой инструкции сроки должны были быть созданы лагеря, рассчитанные не менее чем на 300 чел. каждый. Заключению в лагеря подлежали те лица и категории лиц, относительно которых были вынесены постановления отделов Управления, ЧК, революционных военных трибуналов, народных судов и других советских органов, которым представлялось это право декретами и распоряжениями133.
В соответствии с постановлением ВЦИК от 17 мая 1919 г., наряду с тюрьмами во всех губернских городах России начали создаваться лагеря принудительных работ, подведомственных НКВД. Постановление ВЦИК не только регламентировало порядок организации лагерей, но и впервые в истории пенитенциарной системы советской России определило правовое положение заключенных.
На 25 ноября 1919 г. в стране уже был 21 лагерь (16 000 заключенных), к ноябрю 1920 г. – 84 лагеря (59 000 заключенных), а к маю 1921 г. число лагерей достигло 128, а количество заключенных – примерно 100 000 чел. В Екатеринбургской губернии было создано три концлагеря (Екатеринбургский, Нижне-Тагильский и Верхотурский)134.
В мае 1920 г. президиумом Губчека с согласия Губкома РКП (б) и Екатеринбургского Губисполкома было принято решение организовать в городе концентрационный лагерь. Это был первый в Уральской области концлагерь для приговоренных к отбыванию наказания в виде принудительных работ135.
В докладе о работе Губернского подотдела принудительных работ с 1 марта по 28 июля 1920 г., направленном в Губернский отдел Управления, заведующий Губернским подотделом принудительных работ сообщает, что «концентрационный лагерь при подотделе организован на 5 000 человек и с 19 июля сего года туда начали поступать осужденные на принудительные работы с содержанием под стражей». По мнению заведующего подотделом, поздние сроки открытия лагеря в июле 1920 г. объясняются тем, что город не давал подходящей территории, а также отсутствием конвоя. Кроме того, требовалось подыскать зимнее помещение под лагерь, так как «настоящее устраивалось для лета»136.
В фонде Екатеринбургского управления местами заключения хранится дело о деятельности концентрационного лагеря №1, содержащее рукописную схему лагеря, составленную в январе 1921 г. Тогда лагерь располагался за чертой города и находился к северу от станции Екатеринбург I, между речкой (р. Основинка на плане не обозначена. – С. К.) и Верхотурским трактом. В записке в Президиум Губернского исполкома, датируемой 5 ноября 1920 г., говорится о том, что «земельный участок для постройки концентрационного лагеря отведен и к Губернскому Подотделу принудительных работ актом комиссии прикреплен; участок расположен между городом и Верх-Исетским заводом, имеет форму ромба, с северной стороны прилегает к ипподрому, южная сторона выходит к спичечной фабрике, западная к Верх-Исетскому и восточная к исправдому №1. Длина южной и северной стороны равна 82,5 сажен [176 метров], западной и восточной равна 95,8 сажен [204 метра], всего в участке 8903,5 квадратных сажен, восточный угол не выходит до дороги (Красноуфимский тракт) 15 сажен».
При сопоставлении плана лагеря с картами города 1918-го, 1930-го и современной картой удалось установить, что лагерь находился к северу от железнодорожных путей, между современным проспектом Космонавтов и улицей Кислородной. Указанная на плане речка (р. Основинка) сегодня протекает в трубе, проложенной под улицами Кислородная и Основинская. В настоящее время на этой территории расположены Северное трамвайное депо и АООТ «Екатеринбургское такси»137.
О непригодности лагеря в зимнее время свидетельствует и протокол комиссии, проводившей осмотр лагеря 7 октября 1920 г. В нем дано подробное описание как внешнего, так и санитарного состояния лагеря. К этому моменту в лагере находилось уже более 500 осужденных за «контрреволюцию и другие аналогичные преступления» и 502 военнопленных поляка.
Заключенные содержались на бывшем кирпичном заводе Николаева в кирпичных сараях, которые в ширину были равны 5—6 саженям [10—12 метров], а в длину тянулись на несколько десятков саженей. Крыши были железными в два ската, снаружи сараи до некоторой высоты засыпаны глиной. Комиссией были осмотрены два сарая, в одном из них шел ремонт. Первый барак отапливался несколькими железными печами, в первой половине были нары, расположенные в четыре ряда – «два ряда вдоль стенок и два ряда посредине» – в помещении полумрак, пол глинистый. Во второй половине, где размещались военнопленные поляки, не было ни печей, ни нар. Отмечена грязь внутри сарая – «общее содержание и вид […] грязный; одежда, белье, постельные принадлежности грязные».
Ввиду отсутствия печей во второй половине люди вынуждены греться около костров, сооружаемых на полу. Второй барак подготавливали к зиме – «изнутри стенки обшиваются досками при засыпке межстенного пространства землей; нары устраиваются также в четыре ряда, пол между ними (в проходах) устилается кровельными досками; устанавливаются железные печи». В отремонтированной части было выделено помещение для женщин, караула и мастерские.
В лагере среди заключенных велась определенная культурно-просветительская работа. В ноябре 1920 г. была организована библиотека с фондом 1,5 тысячи книг, но в докладе о культурно-просветительской работе отмечено, что большинство осужденных составляли «несознательные» малограмотные крестьяне и рабочие, хотя образованных читателей насчитывалось 300 чел. Работали школы грамотности – по 6 часов в день. Их посещение было в обязательном порядке: действовала система поощрения (снижение срока, свидания с родными, красная доска).Имелись школы для малограмотных I ступени (с преподаванием основ физики, математики и т.д.) и для малограмотных II ступени (начальное обучение)
Велась внешкольная работа – систематические лекции по сельскому хозяйству, скотоводству и прочему. Велась также и политическая работа138.
На лагеря распространял свое действие КЗОТ РСФСР 1918 г. Для заключенных устанавливался рабочий день, определялась сдельная заработная плата за все работы, производимые заключенными, кроме хозяйственных работ по лагерю, – 100% оплата по расценкам профсоюзов. Устанавливалась средняя сумма заработка в день и в зависимости от нее процент, который удерживался с заключенного за содержание его в государственном учреждении – две трети заработной платы.
Так, в Москве при заработной плате в день от 12 до 24 рублей в казну отчислялось две трети, т. е. 8 или 16 рублей соответственно. Если же заключенный вырабатывал в день меньше нормы (12 руб.) – это рассматривалось как нежелание трудиться, и тогда использовалось экономическое принуждение. В этом случае в казну шло 16 рублей. Если же заключенный зарабатывал в день больше 24 рублей, от его зарплаты удерживалось только 16 рублей. Максимум вычета из зарплаты заключенного в Екатеринбурге был установлен в 22 рубля 40 копеек139.
Практически во всех местах заключения создавались мастерские, а затем в лагерях появились и земельные участки. Также осужденные могли работать в учреждениях или в низшем аппарате лагеря. Так, в Екатеринбургском лагере в январе 1921 г. при учреждениях жили и работали 167 чел., с жительством при лагере – 46 чел. и 39 чел. непостоянно. При лагере работали 149 чел. и 39 непостоянно, неработающих насчитывалось 60—80 чел. Общая численность заключенных в лагере на этот момент составляла 359 человек.
В это время в лагере заключенные работали над стройкой помещения для надзирателей, бани, вели ремонт и оборудование прачечной. Помимо этого в январе 1921-го в лагере было четыре мастерских: столярная, портновская, кузнечно-слесарная и сапожная. В столярной и сапожной мастерской не хватало инструментов, мастеров. Помещения, в которых они располагались, были непригодны. Та же ситуация была и в портняжной мастерской – там была только одна исправная машина. Кроме этих мастерских при лагере была парикмахерская в плохом состоянии и с одной мастерской.
С 1921 г. в лагере вводятся ведомости учета заключенных на 15 календарных дней. Согласно их данным, ежедневно на различных работах было занято от 42 до 74% заключенных. На работах, требующих специальной подготовки, как работа в мастерских, был занят относительно небольшой процент осужденных – от 5 до 19% (24 и 73 чел. соответственно).
Немаловажными являются сведения о заключенных, занятых на работах вне лагеря с возможностью жительства при тех учреждениях, на которых они работают. Их число является относительно стабильным в течение 1921 г. – от 25 до 47% (июнь и сентябрь соответственно). Эта стабильность объясняется тем, что для работ при учреждениях привлекались в основном люди по специальности, а получение права жить при учреждениях давалось индивидуально. Число заключенных, работающих при учреждениях с явкой в лагерь, постоянно меняется – от 118 чел. (15—30 июня) до 11 чел. (конец декабря). Скорее всего, эти заключенные привлекались для разовых работ. Так, например, женщины привлекались для мытья полов в помещении подотдела принудительных работ.
К одной из категорий заключенных, чей труд оплачивался, относились осужденные, выполняющие работы в администрации лагеря. Заключенные занимали следующие должности: секретарь, делопроизводитель, бухгалтер, счетовод, статистик, конторщик и посыльный. Общее количество работающих в администрации Екатеринбургского лагеря заключенных составляло 54 человека. Вольнонаемные рабочие в основном составляли административный аппарат лагеря – охрану, а также специалистов, работавших в мастерских. С августа 1921 г. в Екатеринбургском лагере начинает работать кирпичный завод, на территории которого и был расположен лагерь. Первоначально на заводе выпускалось до 3 тыс. кирпичей в день. Всего на работах по выделке кирпича было занято 64 человека140.
Обед и ужин для заключенных готовился из одного блюда, порция хлеба составляла три четверти фунта (300 г.). Порция работающих заключенных была повышенной. Следует отметить, что 13 ноября 1920 г. заведующий Губернским подотделом принудительных работ А. М. Зверев в докладе в Президиум Екатеринбургского Губисполкома говорит о том, что порция работающего в момент составления протокола составляла полтора фунта (600 г.) хлеба в день. Но уже в первой половине ноября этот паек был снижен до одного фунта (400 г.) хлеба в день для всех категорий осужденных.
А. М. Зверев указывает на то, что комиссия признала необходимым усилить питание, и просит Губисполком немедленно принять меры по снабжению мест заключения продуктами продовольствия. Подобные требования А. М. Зверев выдвигал и в части снабжения концлагеря одеждой, обувью и постельными принадлежностями, акцентируя на то, что ввиду их отсутствия у заключенных «администрация лишена возможности посылать их на работы, что она обязана делать немедленно, согласно пункту 31 Постановления ВЦИК о лагерях принудительных работ»141.
Концлагеря начали функционировать в тяжелейшее для страны время разраставшегося голода. Питание заключенных в голодном 1921 г. действительно было на грани выживания. Но если сравнивать нормы довольствия в концлагере №1 и в Исправительном Рабочем Доме №1, то окажется, что при той же норме хлеба в день (1 фунт – около 400 г.) мяса или рыбы содержавшиеся в лагере получали больше – 137,6 г. и 100 г. соответственно142.
Можно ужасаться и возмущаться скудостью пайка заключенных в концлагере №1, но вырывать эти страшные факты из контекста общей обстановки в этот период неисторично. Приведем выдержки из «Двухнедельного обзора-бюллетеня по госинформации №1 Екатеринбургской ГубЧК за время с 1 по 15 января 1922 г.»: «Общее политическое состояние Екатеринбургской губернии за период с 1 по 15 января не улучшилось и остается прежним – неудовлетворительным […] В Сысертском детском доме имел место случай голодной смерти двух детей […] В Кыштымском заводе питается лебедой до 60% всего населения. Цена за пуд лебеды достигает 170 тысяч рублей (при стоимости пуда пшеницы 1 000 070 руб. – К. С.). В Каменском уезде зарегистрирован случай убийства матерью двух своих дочерей на почве голода. Особенно резко, в форме голода, кризис существует в трех уездах губернии: Каменском, Красноуфимском и части Екатеринбургского […]»143.
Да и тиф не щадил никого. Так, 23 декабря 1922 г. умер от тифа член Губисполкома, заведующий Губернским отделом юстиции, член комитета Первого городского района РКП (б) Савва Ефимович Волков144.
При этом необходимо отметить, что официально прописанные нормы питания заключенных не соответствовали реальным условиям. Голодный 1921-й привел к тому, что продовольственный паек уменьшался до трех четвертей (иногда и до одной четверти) фунта хлеба (т. е. 100 г.), 6—24 золотников крупы, 6—16 золотников мяса или рыбы.
В довершение всех сложностей подворовывала и лагерная администрация. Ревизионные проверки, имевшие место в концлагерях №1 и №2, выявили ряд «крупных дефектов, упущений проступков даже уголовного характера». В лагере №1, например, был обнаружен крупный недостаток продуктов питания. Разница показателей по муке и хлебу по данным, зафиксированным в расходных книгах, и по фактической наличности составляла в среднем по 30 пудов, т. е. по 480 килограммов145. И это происходило в ситуации, когда ежедневный паек доходил до 100 граммов хлеба!
Документы позволяют проследить численность заключенных лагеря в период с октября по декабрь 1920 г. По сведениям комиссии, на 7 октября численность заключенных составляла 1002 человека. По данным доклада А. М. Зверева от 4 ноября 1920 г. – 2500 человек, а в докладе заведующего отделом Управления губернией от 8 декабря указана численность заключенных – 770 человек. Таким образом, за месяц численность заключенных сократилась в три раза. А в докладе «О жизни Екатеринбургского концентрационного лагеря №1» от 25 января 1921 г. указывается число осужденных на 30 декабря 1920 г. – 359 человек, из которых работало в учреждениях с жительством при лагере – 102 человека, с жительством при учреждениях – 166 человек146.
Главный недостаток лагеря был и в том, что баня располагалась от лагеря в 5—6 верстах, а белья и теплой одежды у большинства заключенных не было. Не удивительно, что при отсутствии санитарной обработки вновь поступавших заключенных, осенью-зимой 1920—1921 началась эпидемия тифа, которая бушевала и в городе. Предпринимаются срочные меры по разгрузке лагеря. 18 ноября 1920 г. 600 заключенных лагеря были отправлены в Нижний Тагил, при этом им, после помывки в гарнизонной бане, выдано 300 комплектов белья (рубашек и кальсон)147.
Вследствие большой скученности, антисанитарии и отсутствия нормального питания в концлагерях разрастались различные заболевания. Судя по официальным отчетам, смертность среди заключенных за 1921 г., прежде всего от тифа, достигала 12,7%. В январе 1921 г. 34 наиболее тяжелых больных пришлось отправить в госпиталь. Заразных больных оставалось в лагере 24; болевших, но не заразных – 294; повторно болевших – 531148.
Даже по состоянию на 1 июля 1922 г. в штате концлагеря №1 не имелось квалифицированных врачей. Были только несколько фельдшеров, сестер милосердия, сиделок и один фармацевт149.
Обратимся теперь к строкам книги одного из первых исследователей красного террора С. П. Мельгунова «Красный террор в России 1918—1923», вышедшей пятым изданием в Москве в 1990 г., где упоминается город Екатеринбург. Относятся они к 1921 г. Ссылаясь на издание «Рев. Россия» №12/13, Мельгунов сообщает: «Из концентрационного лагеря в Екатеринбурге бежало 6 человек. Приезжает заведующий отделом принудительных работ Уранов, выстраивает офицеров, содержащихся в лагере, и „выбирает“ 25 человек для расстрела – в назидание остальным»150.
Труды современных исследователей позволяют уточнить данные, касающиеся Екатеринбургского концлагеря №1, приведенные С. П. Мельгуновым. Во-первых, заведовал Губернским подотделом принудительных работ Семен Никифорович Ураков151. Во-вторых, в июле 1921 г. в лагере расстреляно было не 25, а 30 офицеров, содержащихся в концлагере №1 (5 – за подготовку к побегу и 25 заложников). А в августе – еще 6 офицеров, совершивших побег 2 июля. События лета 1921 г. подробно описаны Н. И. Дмитриевым в статье «Побег из застенка»152.
Кратко дело состояло в следующем. Действительно, бежать из лагеря принудительных работ было от чего. И бежали не только из лагеря, но даже из Екатеринбургской тюрьмы – только за первое полугодие 1920 г. бежало 23 человека153. Какие меры предписывала центральная власть для предотвращения побегов? Еще 17 декабря 1919 г. был издан декрет Совнаркома за подписью Ленина о порядке отпуска заключенных на работы в советских учреждениях, где указывалось, что в случае побега заключенного поручителя, под чью ответственность работал заключенный, немедленно арестовывать на срок 3 месяца без права изменения меры пресечения154.
Нарастание голода участило побеги. Последовал приказ №118 Екатеринбургского губисполкома, губчека и губотдела принудительных работ от 27 мая 1921 г. Приказ гласил: «Ввиду участившихся за последнее время случаев побега арестованных… а также ввиду того, что неоднократно выясняется, что побег тем или иным заключенным совершен благодаря содействию остальных заключенных из той группы, с которой бежавший находился в одной камере… или на внешних работах… – в целях быстрого прекращения этих явлений и устранения их в будущем, дабы пресечь возможность новых преступных действий со стороны злостных преступников, каковые уже имели место среди сбежавших ранее, настоящим приказывается: ввести во всех местах заключения Екатеринбургской губернии круговую поруку среди арестованных, и ОБЪЯВЛЯЕТСЯ для сведения, что с момента издания настоящего приказа впредь за каждого сбежавшего арестованного будет расстреляно 5 человек из той группы, из которой сбежал арестованный, и того рода преступления, к которой относится сбежавший с места заключения или с места работ арестованный […]». Подписали: Предгубисполкома Израилович; Зампредгубчека Г. Штальберг (Герта Штальберг. – К. С.); Завгуботдела принудительных работ А. Зверев155.
Совершались побеги и из лагеря №1. Так, 17 мая 1921 г. скрылся Константин Голубев. Совершили побег офицеры Килосов, Короткин, Шайтанов, Щапов, всего около десяти человек156.
В такой обстановке и был совершен побег из Екатеринбургского лагеря №1: шесть офицеров покинули лагерь 2 июля 1921 г. Далее в своей статье Н. И. Дмитриев описывает обстоятельства этого дела. В ходе дознания допрошенные офицеры заявили, что знали о приказе №118 и о возможном расстреле оставшихся в лагере одногруппников, но не предполагали, что такое может свершиться на практике. Хотя некоторые офицеры пытались отрицать сам факт разговоров о побеге и личного участия в нем, но в ходе разбирательства (т.е. оно все-таки производилось. – К. С.) все вынуждены были признать подготовку к побегу. (Должны были бежать восемь офицеров. – К. С.).
В своем заключении по допросам Ураков писал: «Из настоящего донесения усматривается твердое желание и подготовка к побегу, который был намечен на понедельник. Настоящий побег был предупрежден исключительно благодаря сообщению, сделанному заключенным Степановым Павлом Гавриловичем […] К упомянутому Степанову прошу принять меру поощрения, а к остальным применить на основании приказа №118 высшую меру наказания […]»157. Этим и ограничилось участие С. Н. Уракова в расследовании этого дела.
В ходе дознания выяснено, что конвоир красноармеец Бойко в нарушение приказа отпустил девятерых офицеров, отправленных в лес для постановки изгороди из колючей проволоки вокруг огорода для концлагеря, для сбора ягод и покупки молока у проходивших по тракту деревенских женщин. При этом три офицера (Коземаслов, Чиркунов, фамилия еще одного неизвестна) отказались от побега.
На следующий день в лагере были сформированы два списка. Первый состоял из имен и фамилий пяти офицеров, только готовившихся совершить побег. Второй список включал фамилии двадцати пяти офицеров, входивших в одни и те же десятки с бежавшими в эти же дни шестью офицерами. Составленные списки комендант лагеря А. Филатов немедленно направил председателю Екатеринбургской губчека А. Г. Тунгускову для привлечения виновных «к высшей мере наказания на основании приказа №118».
В ходе заседания Екатеринбургской губчека 4 июля 1921 г., в котором участвовали А. Г. Тунгусков (председатель), А. Крылов, Г. Н. Штальберг, А. Я. Калькштейн (секретарь), были рассмотрены списки «белых офицеров, пытавшихся бежать из лагеря» из пяти человек (А. М. Чечулин, Н. В. Бардин, С. М. Алексеев, В. Н. Боярский, В. Н. Левашов) и «белых офицеров, в десятках из коих бежало шесть человек» – из 25 человек. Постановили: «На основании приказа губисполкома, губотдела принудительных работ и губчека всех перечисленных лиц, обвиняемых в организации и содействии побегу, будучи связаны круговой порукой, согласно вышеупомянутого приказа от 27 мая с/г за №118, подвергнуть высшей мере наказания – расстрелять». 4 июля приговор был приведен в исполнение.
Все шесть действительно бежавших офицеров вскоре были задержаны крестьянами в Ирбитском районе и переданы милиции. 3 августа дело об их побеге было заслушано на заседании членов коллегии Екатеринбургской губернской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. В ночь с 3 на 4 августа они были расстреляны158.
Остается добавить, что среди расстрелянных заложников, чьи автобиографии приводится в статье Н. И. Дмитриева, указан подполковник Иннокентий Иннокентьевич Китновский (1878—1921). Выпускник Казанского пехотного юнкерского училища храбро воевал, защищая Россию. Командовал батальоном, 29 мая 1915 г. произведен в подполковники, а 7 ноября того же года награжден Георгиевским оружием. Был ранен, после возвращения из германского плена, 27 августа 1918 г., мобилизован в белую армию. Как инвалид назначен начальником Новониколаевской унтер-офицерской школы, а затем получил назначение на фронт в качестве завхоза полка159.
Но на следующий год в редакцию журнала пришел отклик историка из Барнаула А. Краснощекова на первую часть статьи, где сообщалось небольшое дополнение. «Судя по всему, Китновскому удалось скрыть факт активного участия в боях против Красной армии. Есть сведения, что летом-осенью 1919 г. он командовал 2-м штурмовым полком 3-й Сибирской штурмовой бригады (с августа 1919 г. в составе Сводной Сибирской дивизии)»160 (выделено мною. – К. С.).
В январе 1922 г. в Екатеринбургском концлагере №1 числилось 784 заключенных. При этом более четверти из них составляли бывшие белые офицеры. Их средний возраст – 27,5 лет. Не укладывается в сложившийся стереотип белого офицера социальное происхождение этих бывших колчаковцев: из крестьян и мещан (поровну) – 88%, остальные – из духовного звания, казаков, почетных граждан и лишь три человека – из дворян. Ясно, что основную массу заключенных составляли младшие офицеры161.
Екатеринбургский губернский концентрационный лагерь №1 был одним из первых опытов молодого государства в налаживании аппарата карательной системы, строительства собственно советских мест заключения. В этом смысле лагерь еще не имел жесткой дисциплины, достаточного количества конвоя, чтобы водить заключенных на работы. Более того, осужденные имели возможность жить при учреждениях, где они работали. Техническое состояние, условия содержания заключенных, необустроенность быта, наличие библиотек и школ, относительно гуманное отношение к заключенным – факторы, свидетельствующие о том, что лагерная система только зарождалась.
Но условия продолжающейся Гражданской войны, разруха и голод, воцарившиеся в стране, все более ужесточали режим содержания в местах заключения. О чем свидетельствуют события лета 1921 г. в Екатеринбургском концлагере №1.
В том же 1921 г. ЦК РКП (б) создал комиссию, которая предложила пересмотреть дела в отношении всех лиц, попавших в места заключения в годы Гражданской войны. В результате были проведены массовые амнистии и пересмотр дел тех заключенных, которые не подпали под них. Декрет СНК РСФСР от 28 ноября 1921 г. обязал Народный комиссариат труда и его местные органы содействовать трудоустройству заключенных, для чего была издана специальная инструкция.
Постановлением СНК от 25 июля 1922 г., и совместным постановлением НКЮ и НКВД от 12 октября 1922 г., все управление местами заключения было сосредоточено в НКВД с образованием в его составе Главного управления местами заключения (ГУМЗ), а лагеря и бывшее Главное управление принудительных работ упразднили. Так, в Екатеринбурге появилось Губернское управление местами заключения (ГУБУМЗАК), существовавшее до 15 декабря 1923 года. Однако в ведении ВЧК, а затем и ОГПУ осталось значительное количество специальных лагерей, деятельность которых регулировалась совершенно секретными инструкциями и приказами по линии Государственного политического управления (ОГПУ)162. В 1930-е гг. из подобных лагерей вырос «архипелаг ГУЛАГ».
132
Пащина М. В. Использование труда заключенных в концентрационных лагерях Среднего Урала в 1918—1921 гг. // Урал индустриальный. Материалы VIII Всероссийской конференции. Екатеринбург, 2007. Т. 2. С. 191.
133
Мозохин О. Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918—1953). М., 2011. С. 16.
134
Смыкалин А. С. Колонии и тюрьмы в советской России. Екатеринбург, 1997. С. 57.
135
ГАСО. Ф. 1568. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
136
Пащина М. В. Екатеринбургский губернский концентрационный лагерь №1 // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: материалы V региональной научной конференции, декабрь 2002. Екатеринбург, 2003. С. 362.
137
Пащина М. В. Указ. соч. С. 363—364.
138
Пащина М. В. Указ. соч. С. 363.
139
Пащина М. В. Использование труда заключенных в концентрационных лагерях Среднего Урала в 1918—1921 гг. С. 191.
140
Пащина М. В. Использование труда заключенных в концентрационных лагерях Среднего Урала в 1918—1921 гг. С. 192.
141
Пащина М. В. Екатеринбургский губернский концентрационный лагерь №1. С. 363.
142
ГАСО. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 8. Л. 15.
143
ЦДООСО. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 82. Л. 2—9.
144
ЦДООСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 259. Л. 20об.
145
Рогова Е. М. Бывшие участники Белого движения в концентрационных лагерях Среднего Урала. 1919—1923 гг. // Научные труды XVI Международной конференции молодых ученых по приоритетным направлениям развития науки и техники. Ч. 1. Екатеринбург, 2009. С. 367.
146
Пащина М. В. Екатеринбургский губернский концентрационный лагерь №1. С. 363.
147
ГАСО. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 53. Л. 21.
148
ГАСО. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 53. Л. 21.
149
Рогова Е. М., Дмитриев Н. И. Санитарное состояние и медицинское обеспечение пенитенциарных учреждений Среднего Урала (1918—1923 гг.) // Науч. труды ХVII Межд. конф. молодых ученых по приоритетным направлениям развития науки и техники. Ч. 1. Екатеринбург, 2009. С. 402.
150
Мельгунов С. П. Красный террор в России 1918—1923. М., 1990. С. 76.
151
ГАСО. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 46. Л. 125. Ураков С. Н. родился 2 февраля 1886 г. в бедной крестьянской семье в Вятской губернии. После ранения на фронте Первой мировой войны получил звание младшего унтер-офицера. В марте 1917-го вступил в партию левых эсеров, а в феврале 1918-го – в РКП (б). С 5 мая 1918 г. воевал с чехословаками, попал в плен, после тюрьмы и концлагеря ожидал расстрела за попытку побега, но сумел бежать в 1919 г. В июле 1919-го назначен комендантом Екатеринбургской тюрьмы. В марте 1920 г. возглавил Губернский подотдел принудительных работ (ГАСО. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 8. Л. 44, Д. 10. Л. 64).
152
См.: Белая армия. Белое дело. Исторический научно-популярный альманах. Екатеринбург. 2011. №19. С.98—121; 2012. №20. С. 81—103.
153
ГАСО. Ф. Р-149. Оп. 1. Д. 2. Л. 195.
154
ГАСО. Ф. Р-149. Оп. 1. Д. 2. Л. 50.
155
Дмитриев Н. И. Побег из застенка // Белая армия. Белое дело. Екатеринбург. 2011. №19. С. 106.
156
Дмитриев Н. И. Побег из застенка // Белая армия. Белое дело. Екатеринбург. 2012. №20. С. 82.
157
Дмитриев Н. И. Побег из застенка // Белая армия. Белое дело… №19. С. 107—110.
158
Дмитриев Н. И. Побег из застенка // Белая армия. Белое дело… №20. С. 86, 102.
159
Дмитриев Н. И. Побег из застенка // Белая армия. Белое дело… №19. С. 115.
160
См.: Дмитриев Н. И. Побег из застенка // Белая армия. Белое дело… №20. С. 102.
161
ГАСО. Ф. 1568. Д. 30. Л. 41, 84. Подсчеты автора.
162
Смыкалин А. С. Колонии и тюрьмы в советской России. С. 64, 66, 67, 76.