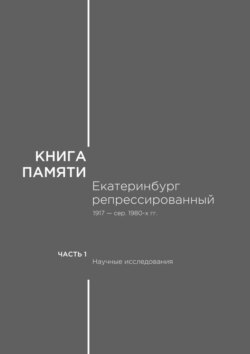Читать книгу Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть I. Научные исследования - В М Кириллов - Страница 9
Глава 4. Церковь и советский атеизм
4.1. Этапы репрессивной политики по отношению к церкви и верующим (А. В. Печерин)
ОглавлениеС первых дней или даже часов Октябрьской революции пришедшие к власти политические силы проявили себя непримиримыми врагами Церкви. Достаточно сказать, что в принятом 26 октября одним из первых «Декрете о земле» объявлялось о национализации церковно-монастырских земель. Последующими постановлениями советской власти была аннулирована действенность церковного брака, ликвидирован институт духовников в вооруженных силах, упразднялись домовые церкви при государственных учреждениях и т. д.215
Итог начальной фазе антицерковной политики советского правительства подвел принятый 20 января 1918 г. декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (тезисы которого были обнародованы еще в начале января), носивший в отношении церковных структур крайне дискриминационный характер.
В такой обстановке 19 января появилось послание патриарха Тихона, вошедшее в историю как «анафематствование большевиков». Заседавший в Москве Поместный собор не признавал ни одного постановления новой власти. Жесткое противостояние советского государства и Церкви стало неизбежным.
В условиях разгоревшейся вскоре в стране Гражданской войны (на начальном этапе сопровождавшейся красным террором в отношении противников новой власти – реальных или потенциальных) развернулись гонения на духовенство, которое на Урале пострадало больше, чем в каком-либо другом российском регионе216.
Так, согласно данным, представленным Высшему Временному Церковному Управлению, только в период с 10 июня по 17 октября 1918 г. в пределах Екатеринбургской епархии были убиты разными способами 47 служителей культа, из них 3 протоиерея, 33 священника, 7 диаконов, 1 псаломщик, 1 просвирня и 2 монашествующих217. По сообщениям Екатеринбургского епархиального совета, в это же время тюремному заключению подверглись 25 священников, скрывались от преследований около 50218.
При этом следует отметить, что среди служителей церкви в самом Екатеринбурге погибших от рук красных в то время не оказалось, но это не значит, что положение духовенства здесь могло считаться благополучным. Так, еще 13 февраля пьяными матросами Северного революционного отряда в городе был зверски убит воспитанник Екатеринбургской семинарии Симеон Коровин219.
По мере ухудшения положения на фронте, красными производились аресты заложников, в число которых попадали и представители духовенства. В Екатеринбурге среди таковых оказалось шесть протоиереев220. Один из них, настоятель Всехсвятской церкви на Михайловском кладбище Алексей Катагощин, в мае и июле 1918 г. дважды едва не погибший от рук красных, в дальнейшем ярко описал свои злоключения на страницах епархиальной прессы221.
После ужасов Гражданской войны страну постигло еще одно бедствие. Летом 1921 г. невиданная засуха поразила ряд регионов, не обойдя стороной и Урал. В этих условиях советская власть, вместо того чтобы объединить все силы для борьбы с начавшимся голодом, решила воспользоваться моментом для того, чтобы нанести по своим идеологическим противникам сокрушительный удар. В стране началось повсеместное изъятие церковных ценностей, сопровождавшееся арестом тех представителей духовенства, которых хоть в какой-то степени можно было обвинить в сопротивлении властям.
Именно в этот период прошли первые суды над екатеринбургским духовенством. Для начала был арестован настоятель Свято-Духовской церкви протоиерей Александр Здравомыслов – за то, что собрание прихожан его храма осудило изъятие. Суд состоялся в сентябре 1922 г. Отец Александр получил три года заключения; правда, на свободу он вышел досрочно. 20—21 января 1923 г. в губернском ревтрибунале состоялся открытый процесс над главой епархии архиепископом Григорием (Яцковским) и ирбитским протоиереем Александром Анисимовым – отчасти на основании сфабрикованного дела о сопротивлении изъятию ценностей, отчасти за сотрудничество с Колчаком. В реальности же главной причиной ареста архиерея, по-видимому, стал его отказ признать созданное с подачи властей обновленческое Высшее Церковное Управление. В итоге Григория приговорили к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения, Анисимова – к одному году222.
Середина двадцатых годов для Урала и страны в целом характеризовалась заметным ослаблением репрессивной политики государства по отношению к Церкви. Отдельные авторы оценивают этот период с использованием понятия «религиозный нэп»223. Тем не менее, благоприятным для духовенства он мог считаться разве что в сравнении с последующей эпохой.
В это время власть активно занималась дезорганизацией церковных структур путем инициирования всевозможных расколов (обновленческого, григорианского и проч.). Против религии и духовенства была развязана настоящая информационная война – в газетах, журналах, радиопередачах, кинофильмах и т. д.
Одной из самых продолжительных репрессивных кампаний против представителей духовенства стало лишение их избирательных прав. Согласно инструкции «О выборах городских и сельских советов и о созыве съездов советов» от 13 октября 1925 г. (п. 14), избирательного права лишались служители религиозных культов всех вероисповеданий и толков, как то: монахи, послушники, священники, диаконы, псаломщики и т. д., независимо от того, получают ли они за исполнение этих обязанностей вознаграждение224.
В дальнейшем происходил рост числа лишенцев за счет добавления новых категорий, в т. ч. членов семей.
Таблица 1.1
Количество лишенных избирательных прав
по религиозному признаку в г. Свердловске*
* Составлено по: Список лишенных права голоса по г. Свердловску 1934—1935 г. ГАСО. Ф. Р-286. Оп. 3. Д. 442. Л. 1—46.
На рубеже двадцатых-тридцатых годов в стране был взят курс на радикальные социально-экономические преобразования, проводившиеся присущими большевикам методами. Одновременно развернулась тотальная антицерковная кампания, проводившаяся под лозунгом «Борьба с религией – борьба за социализм». В стране началось массовое закрытие церквей, пик которого пришелся на 1930 г. В Свердловске (без пригородов) тогда оказалось закрыто девять православных церквей из 11, при этом основные храмы центральной части города были тут же разрушены225. В это же время произошло и резкое усиление репрессий против представителей церкви.
Таблица 1.2
Количество осужденных «церковников»
по г. Свердловску226
* Составлено по авторской Базе данных репрессированного духовенства Урала.
Именно к 1930 г. относится первый смертный приговор, вынесенный свердловскому городскому духовенству. Высшую меру наказания при этом получил протодиакон Иоанно-Предтеченской церкви Василий Степанович Лушников, основная вина которого заключалась в скупке разменной серебряной монеты, которой у него в итоге было обнаружено на сумму в 150 рублей227. Пожалуй, при сколько-нибудь адекватном подходе к делу, в подобных действиях вообще нельзя было бы усмотреть состав преступления!
Если в двадцатые годы репрессиям по политическим обвинениям подвергались только представители духовенства, то отныне «компетентные органы» взялись и за мирян. Так, фигурантами одного из дел стали пять женщин с Уктуса (член церковного совета и четыре простых прихожанки), оказавших решительное противодействие попытке властей разгромить церковь. В итоге две из них получили по три года концлагеря, остальные – по году принудительных работ. Вероятно, приговор мог оказаться и куда более суровым, но в последний момент наиболее «тяжелые» пункты статей из обвинительного заключения оказались кем-то вычеркнуты, оставлена только антисоветская агитация228.
Новое усиление натиска на Церковь (после небольшой передышки, вызванной «головокружением от успехов») произошло в 1932 г., когда в стране было объявлено о начале «безбожной пятилетки». Правда, девять осужденных тогда свердловских «церковников» отделались лишь трехлетней ссылкой (главным образом – в Казахстан).
Очередной небольшой всплеск репрессий, произошедший в 1935 г. (кстати, нехарактерный для области в целом), вероятно, был связан с обострением внутриполитической ситуации в стране после убийства С. М. Кирова.
В данный период не ослабевал и административный нажим на Церковь. Для разорения общин с целью последующего закрытия церквей власти повсеместно применяли непомерно завышенное налогообложение.
Кульминацией репрессивной политики большевиков против Церкви стал Большой террор 1937—1938 гг., начавшийся после выхода приказа Народного комиссара внутренних дел СССР №00447 от 30 июля 1937 г.
Следует отметить, что эта беспрецедентная по своему размаху и жестокости кампания началась далеко не спонтанно; по крайней мере, постепенное нарастание гонений на церковь происходило на протяжении нескольких месяцев. Так, еще до начала массовых репрессий сокрушительный удар на Урале был нанесен по обновленцам (которые в былые времена пользовались широким покровительством со стороны властей). 26 мая 1937 г. арестовали обновленческого митрополита в Свердловской области Михаила Трубина, а вместе с ним 126 других представителей этой церкви, проживавших в Свердловске, Перми и других городах229. Приговоры им вынесли, однако, уже в период действия приказа №00447.
Первым же свердловским «церковником», осужденным в рамках начавшейся кампании, оказался заштатный диакон Михаил Бирюков, обвинение в адрес которого выглядело на удивление «несолидно»: « […] В апреле месяце с. г. Бирюков М. И. в присутствии своих квартирохозяев […] вел антисоветскую пропаганду, направленную к дискредитации руководителей ВКП (б) и советского правительства, нанося по отношению их оскорбления»230. И только! Тем не менее, для расстрельного приговора (вынесенного 9 августа 1937 г.) этого оказалось достаточно231.
Подобные эпизоды, отмечавшиеся в то время и в других местах, свидетельствуют о том, что выполнение поступившей к ним разнарядки сотрудники НКВД начали с отдельных лиц, на которых в то время у них имелся хоть какой-то компрометирующий материал. Но, разумеется, это оказалось лишь каплей в море. Сложившаяся ситуация уже очень скоро заставила чекистов полностью перестроить свою работу, перейдя к массовым арестам на основании одного лишь «социально чуждого происхождения»232 (и т. п. мотиваций).
Подавляющее большинство «церковников», попавших в то время в жернова репрессивной системы, проходило по групповым делам, насчитывавшим 34, 37 и даже 88 фигурантов каждое. Заметим, что хотя речь в этих делах шла об организациях «церковников», реальную принадлежность к Православной Церкви большинства их фигурантов надо признать неочевидной (достаточно сказать, что среди них нередко встречаются старообрядцы, а также сектанты – евангелисты и проч.). Поэтому в наших подсчетах и при составлении Базы данных мы их не учитывали.
При этом в адрес подследственных выдвигались написанные «под копирку» обвинения, уже напрочь оторванные от всякой реальности.
– Контрреволюционная организация церковников в борьбе против ВКП (б) и советской власти своими задачами ставила:
1. Свержение советской власти, с тем, чтобы ликвидировать большевизм и учредить в России фашистскую диктатуру, по принципу диктатуры Гитлера в Германии.
2. Совершение террористических актов над руководителями ВКП (б) и советского правительства.
3. Организацию массовых диверсионных актов в промышленности, в сельском хозяйстве и на железнодорожном транспорте Советского Союза.
4. Создание мощных повстанческих кадров внутри СССР, на случай вооруженного восстания, намечаемого контрреволюционной организацией церковников, в момент вооруженного нападения на Советский Союз фашистских государств […]233.
Составлявших подобные, с позволения сказать, документы, ничуть не смущало даже то, что в них порой заявлялось, к примеру, о намерении организовать диверсии на Невьянском медеплавильном комбинате (которого никогда не существовало) или уничтожить путем поджога железнодорожные тоннели на линии Казань – Свердловск (в которых гореть было просто нечему)!234
И уж подавно никто не придал значения тому, что, скажем, по одному из дел осужденные оказались расстреляны 19 октября 1937 г., а обвинительное заключение (на основании которого, по идее, только и мог быть вынесен приговор) было составлено лишь в ноябре!235
Обращают на себя внимание крайне подробные показания, данные на следствии митрополитами – «сергиевцем» Петром (Савельевым) и «григорьевцем» Петром (Холмогорцевым). В том и в другом случаях они занимают по 60—80 листов, на которых едва ли не все подчиненное этим архиереям духовенство аттестуется в угодном для сотрудников НКВД духе236. И в то же самое время, другие архиереи – «сергиевец» Макарий (Звездов) и «обновленец» Михаил (Трубин) никаких признательных показаний так и не дали.
Приговоры обвиняемым выносились в соответствии с приказом №00447 – расстрел (более чем в 60% случаев) и 10 лет лагерей (8-летних сроков по свердловским «церковникам» не отмечено). При этом в августе и сентябре 1937 г. ВМН получали все обвиняемые поголовно, в октябре абсолютное преобладание (88%) имели приговоры к 10 годам ИТЛ, в начале ноября картина перевернулась: ВМН – 86%, в середине того же месяца всех стали приговаривать к 10 годам ИТЛ и, наконец, в феврале-мае 1938 г. вновь выносились исключительно расстрельные приговоры (хотя и в значительно меньшем количестве, чем полгода назад). Вероятно, это может быть объяснено тем, что сотрудники НКВД вначале постарались «закрыть лимит» по первой категории, далее принялись за вторую. Вскоре, однако, «плановые показатели» оказались пересмотрены в сторону увеличения, на места были спущены дополнительные цифры, после чего все началось по новой. И так повторялось неоднократно.
Последний приговор свердловским «церковникам» в рамках Большого террора был вынесен 13 мая 1938 г., хотя по стране в целом кампания после этого продолжалась еще полгода. Возможно, что, с одной стороны, в областном центре ее удалось закончить быстрей; с другой, представители духовенства и церковного актива попали под удар одними из первых и на завершающем этапе сотрудникам НКВД пришлось переключаться на иные категории «антисоветских элементов».
После завершения Большого террора, вопреки бытующему мнению, никакой перемены в отношении к религии и духовенству со стороны властей предержащих не наступило. В отношении немногих чудом оставшихся на свободе служителей церкви по-прежнему проводилась агрессивная политика, направленная на ущемление их прав. Так, летом 1940 г. все духовенство Свердловска и пригородов было вызвано в областную милицию, где снято с паспортного учета и предупреждено о необходимости покинуть город в течение 24 часов. Официальной причиной был назван квартирный кризис. Единственным городским священником, которого эта мера не коснулась, стал протоиерей Николай Адриановский237.
И хотя, как казалось, после этого подвергать репрессиям здесь было уже просто некого, сотрудники «компетентных органов» отыскали-таки еще двоих человек, «активного церковника» Н. В. Байнова и бывшую монахиню А. А. Зыкову (73-летнюю старушку), которых годом позже приговорили по 58-й статье к восьми и пяти годам лагерей соответственно238.
Незадолго до начала Великой Отечественной войны в Свердловске закрылась Всехсвятская церковь на Михайловском кладбище. После этого действующей оставалась одна-единственная церковь – Иоанно-Предтеченская (тоже кладбищенская), но и ее судьба выглядела предрешенной; достаточно сказать, что ее настоятель из-за непосильных налогов был вынужден оставить службу и уйти на гражданскую работу239. А ведь накануне революции в городе (с пригородами) насчитывалось более 40 православных храмов!
Всего за период активных гонений на Православие (1918—1941 гг.) в Екатеринбурге-Свердловске (включая территории, включенные в его состав в дальнейшем), по имеющимся на сегодня данным, подверглось репрессиям:
Итого 118 «церковников», в том числе 57 представителей духовенства, включая заштатное (из них расстреляно 49 и 27 соответственно)240.
На первый взгляд, приведенные цифры выглядят совсем не впечатляюще, однако надо учесть, что эти 57 человек составляют более 60% от общего количества священно-церковнослужителей, насчитывавшегося до революции по г. Екатеринбургу с пригородами241. А ведь, как уже было отмечено, данные о численности репрессированных должны быть признаны заведомо заниженными!
Долгожданную перемену в отношении политического руководства страны к религии принесла лишь Великая Отечественная война. Однако даже в период, так сказать, наибольшего потепления, власть нет-нет да и возвращалась к привычным формам взаимоотношений с церковью.
Достаточно сказать, что первый после длительного перерыва глава епархии архиепископ Варлаам (Пикалов), прибывший в Свердловск в октябре 1943 г., спустя 10 месяцев был арестован, попал в лагеря (правда, на сей раз – по уголовной статье), где и погиб242.
Другое дело, что подобные репрессии по своему размаху не шли ни в какое сравнение с теми, которые имели место в тридцатые годы. Однако же, и количество действующих храмов с тех пор сократилось многократно, как и численность состоявшего при них духовенства.
215
Митрофанов Г., прот. История Русской Православной Церкви: 1900—1927. СПб., 2002. С. 122—126.
216
Нечаев М. Г. Церковь на Урале в период великих потрясений: 1917—1922. Пермь, 2004. С. 222.
217
Булавин М. В. Взаимоотношения государственной власти и Православной Церкви в России в 1917—1927 гг. (на примере Урала): дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2000. С. 48.
218
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. Екатеринбург, 2001. С. 29.
219
Там же. С. 28.
220
Там же. С. 29.
221
Катагощин А., прот. В лапах большевиков // Известия Екатеринбургской церкви. 1918. №14, 1—15 авг. С. 251—256.
222
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия… С. 37.
223
Курляндский И. А. Сталин, власть, религия (религиозный и церковный факторы во внутренней политике советского государства в 1922—1953 гг.). М., 2011.
224
Цит. по: Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских Советов и о созыве Съезда Советов. URL: https://www.rusempire.ru/sssr/osnovnye-pravovye-akty-sssr/607-ob-utverzhdenii-instruktsii-o-vyborakh-gorodskikh-i-selskikh-sovetov-i-o-sozyve-s-ezda-sovetov.html (дата обращения: 12.02.2020).
225
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия… С. 59.
226
Включая ВИЗ, Уктус, Нижне-Исетск, Елизавет, Шарташ, Пышму. В таблице не учтены лица, осужденные районными народными судами, а также получившие условное наказание.
227
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 53596. Л. 15—16, 18.
228
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 15785. Л. 108—111.
229
Нечаев М. Г. Из истории Пермской епархии // Храмы Пермского края. Историко-краеведческое издание. Фотоальбом. Пермь, 2010. С. 27.
230
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 62313. Л. 16.
231
Там же. Л. 18.
232
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия… С. 70.
233
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 14923. Л. 427.
234
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 24176. Л. 382.
235
Там же. Л. 399, 422—425; Репрессированные владыки Свердловской епархии. URL: http://alexlib.ru/obshchestvo/duhovnoe-pole/repressirovannye-vladyki-sverdlovskoj-eparhii/ (дата обращения: 13.02.2020).
236
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 24176. Л. 9—71, 80—162.
237
Лавринов В., прот. Временный Высший Церковный Совет и его роль в истории Русской Православной Церкви (1925—1945). Екатеринбург, 2018. С. 147.
238
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 57328. Л. 235—239.
239
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия… С. 74.
240
Составлено по авторской Базе данных репрессированного духовенства Урала.
241
Подсчитано по: Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1915 год. Екатеринбург, 1915.
242
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия… С. 132.