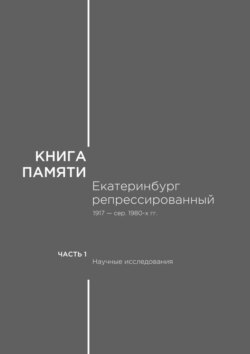Читать книгу Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть I. Научные исследования - В М Кириллов - Страница 7
Глава 3. Лишение избирательных прав граждан в 1920—1930-е гг. как инструмент негативной социальной селекции
3.1. Правовая основа процесса лишения избирательных прав (А. П. Килин)
ОглавлениеПосле октября 1917 г. экономические преобразования были подчинены политическим целям – удержанию власти, социальному переустройству старого и формированию нового общества. Одним из методов классовой борьбы в условиях новой экономической политики было внесудебное ограничение в гражданских правах значительной части населения.
Большевики, «диалектически» сочетая идеологический догматизм и прагматизм в оперативном управлении, с одной стороны декларировали демократические принципы, а с другой подвергали дискриминации значительную часть населения. Нельзя утверждать, что в данном случае был реализован принцип «кто был ничем, тот станет всем», поскольку, помимо «бывших», ряды маргиналов пополнили новые «неполноправные свободные».
Механизм внесудебного лишения избирательных прав позволял отстранить от легальных форм управления на самых разных уровнях власти и в самых разнообразных сферах не только «бывших», но и «неблагонадежных». Среди представителей последних были как те, кто эксплуатировал чужой труд, так и те, кто занимался торговлей. Лишение частных предпринимателей избирательных прав, то есть дискриминация граждан по признаку профессиональной деятельности, заслуживает особого внимания, поскольку демонстрирует «законные, но не противоправные» действия властей, так как граждане существенно ограничивались в своих правах за занятие легальным видом деятельности, которую государство облагало налогами.
Отметим внесудебный, административный порядок лишения избирательных прав граждан, что является радикальной мерой по современным меркам. Так, в сельской местности включение человека в список лишенных избирательных прав и исключение из списка избирателей могло производиться на бездокументной основе, т. е. со слов односельчан или представителей сельсовета человек объявлялся «торговцем» или «кулаком».
Правовая среда Советской России 1920-х гг. была уникальной и единственной в своем роде. Законодательство монархической России в первые годы после Октябрьского переворота использовалось для нужд нового государства в части, не противоречащей декретам советской власти и духу «революционной законности».
Подобно многоукладной экономике, в законодательной практике присутствовали элементы прежнего буржуазного права, над которыми доминировали нормы «революционной законности». Последние сочетались с неписаными правилами – «большевистской этикой» и базировались на восприятии общества через призму классовой борьбы, таким образом можно говорить о специфической модели «правового плюрализма». Оценка конкретных ситуаций с этой, специфической, точки зрения была повсеместной. В таких условиях грань между законом и беззаконием в деятельности органов власти и управления зачастую становилась прозрачной и трудноразличимой.
По прямому признанию В. И. Ленина, революционные декреты служили, прежде всего, целям пропаганды, а главное, и они, и весь гигантский массив юридических документов, практика юридических органов строились в соответствии с «духом революционного правосознания», ни в коей мере не ограничивали всевластие партийных чиновников и административного аппарата партийного государства, юридически облагораживали ничем не ограниченные внесудебные и судебные репрессии, расправу с неугодными, «контрреволюционерами» и «оппозицией»163.
С. С. Алексеев отмечает две особенности советского права. Во-первых, в него непосредственно включалось социальное революционное право, т. е. «неправовой» в юридическом смысле феномен; во-вторых, оно было носителем тоталитарной идеологии, которая, подчинив право, пропитав его догмами, превратила правовую систему в предельно заидеологизированную, тоталитарную, утратившую коренные правовые ценности164.
Учитывая специфику правовой среды советской России, приходится констатировать, что ограничение значительной части членов общества в гражданских правах (лишение права голоса на выборах) с формальной точки зрения было законно165. В Конституциях РСФСР 1918 и 1925 гг. содержалось положение, в соответствии с которым, наряду с заключенными и душевнобольными, целый ряд категорий граждан (на основе классового или профессионального признаков) лишались права избирать и быть избранными (пассивного – быть избранным и активного – избирать). К категории «лишенцев»166 относились «классово чуждые» элементы, идеологические противники, представители некогда правящих групп и сословий, а также граждане, не занятые в обобществленном секторе производства. В своей работе Г. Алексопулос пишет о том, что «Ленин заявил, что его партия „лишит избирательных прав всех граждан, препятствующих социалистической революции“»167.
Основными источниками при изучении проблем избирательного законодательства 1920-х являются Конституции РСФСР 1918 и 1925 гг. и «Инструкции о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов советов».
Последовательное изучение инструкций по выборам 1920 г.168, 1925 г.169 (изданной в связи с принятием новой конституции), 1926 г.170, а также 1930 г.171, дает возможность проследить изменения в избирательном законодательстве советской России в части лишения граждан избирательных прав.
Закономерным является юридическое оформление de jure тех изменений, которые произошли в реальной практике de facto. Любые корректировки инструкции о выборах свидетельствовали о необходимости приведения юридических норм в соответствие с требованиями жизни. Так, появление постановления ВЦИК от 10 апреля 1930 г. и последующие уточнения, несомненно, свидетельствуют о массовых злоупотреблениях и нарушениях в правоприменительной практике избирательного законодательства172.
Рассмотрим инструкции о выборах и сопоставим содержащиеся в них отдельные положения в части категории лишенных избирательных прав.
В инструкции 1920 г. говорилось: «Не избираются и не могут быть избранными… а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли, как то: заводчики, фабриканты, деревенские кулаки и другие паразитические элементы, эксплуатирующие труд рабочих, служащих, деревенских батраков и т. д.; б) лица, живущие на нетрудовой доход, как то: проценты, доходы с предприятий, имущество и т. п.; в) спекулянты, частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; г) монахи, духовные служители церквей и религиозных культов всех вероисповедований, сект и т. п.; д) служащие и агенты бывшей царской полиции, особого корпуса жандармов, охранных отделений; е) полиция и милиция всех бывших контрреволюционных правительств, существовавших во время Гражданской войны [для Урала это было связано, прежде всего, с правительством адмирала Колчака. – А. К.]; ж) члены царствующего дома в России; з) лица, бежавшие с контрреволюционным правительством во время его бегства от Красной армии [для Урала это означало „бегство с Колчаком“. – А. К.]; и) лица, признанные в установленном порядке душевно больными или умалишенными, а также лица, состоящие под опекой, и осужденные за корыстные или порочные преступления на срок, установленный законом или судебным приговором»173.
Нет указания на то, на основании каких документов должно быть вынесено решение. В данной инструкции не идет речь о лишении избирательного права членов семьи «лишенца», которые достигли избирательного возраста, но находились на иждивении. В последующих документах этот тезис повсеместно присутствует, что существенно расширяло круг граждан, ущемленных в правах.
Необходимо отметить, что отдельные нормы инструкции о выборах в части лишения избирательного права не всегда использовались с одинаковой интенсивностью. В первые годы нэпа, когда были сделаны уступки рынку, а также допускалось легальное существование частных предпринимателей, органы власти были несколько дезориентированы и не применяли повсеместно лишение избирательных прав к частным торговцам и прочим, наиболее экономически активным социальным группам. Когда началось наступление на принципы нэпа и государственное регулирование усилилось, активизировался и процесс лишения избирательных прав.
В 1924 г. на короткий срок, а затем планомерно, начиная с 1926 г. и вплоть до 1930-х гг., лишение избирательных прав как форма классовой борьбы применялось наиболее активно. Однако следует учитывать, что начало разработки документа и момент его принятия разделял определенный временной промежуток. Правоприменительная практика в раннесоветском обществе могла как отставать от законодательства, так и стремительно опережать его, радикализируясь, или ослабевать в зависимости от политической конъюнктуры.
Так, например, инструкции 1925, 1926 и 1930 гг. имеют существенные отличия от предшествующего положения 1920 г. В них более детально проработан механизм лишения избирательных прав и порядок рассмотрения жалоб граждан. Это, несомненно, свидетельствует о насущной необходимости регламентировать широко распространившуюся практику лишения прав. В последующих инструкциях, помимо уточнения категорий граждан, указывалось, на основании каких документов должно было приниматься решение о внесении их в списки местных избирательных комиссий, что, в свою очередь, свидетельствует об усилении правового регулирования избирательного процесса.
В инструкции 1925 г. говорится, что «учет лиц, лишенных избирательных прав, проводится на основании сведений документального характера»: копий приговоров или справок судебных органов; сведений финансовых органов об уплате подоходного и промыслового налогов, справок о выборке патентов на занятие торговой и предпринимательской деятельностью; справок административных органов или волостных исполнительных комитетов и сельских советов; а также актов органов здравоохранения174.
Очевидно, что включение в инструкцию 1925 г. перечня лиц, которые не должны ограничиваться в гражданских правах, было обусловлено реальной практикой неправомерного лишения избирательных прав целого ряда кустарей, ремесленников и мелких сельских производителей.
Не лишались избирательных прав лица, которые пользовались наемным трудом в соответствии с правилами об условии применения подсобного наемного труда в крестьянских хозяйствах; владельцы и арендаторы мельниц, просорушек, маслобоек, кузниц и т. п. предприятий и вообще все кустари и ремесленники, имевшие не более одного или двух учеников, если они лично участвовали в работах; лица, получавшие проценты с вкладов и облигаций государственных, коммунальных и кооперативных займов; лица, выбиравшие патент первого разряда (торгующие вразнос); вспомогательный персонал церковных организаций, если они работали в них по найму; члены семей лиц, лишенных избирательного права, если они материально не зависели от лиц, лишенных избирательного права по своей профессии175.
Инструкция 1926 г. дополнила этот перечень. Не могли быть лишены избирательного права лица, занимавшиеся сельским хозяйством и сбывавшие продукты своего труда на рынок; привлеченные в свое время в ряды белых армий путем мобилизации рабочие, низшие служащие, трудовые крестьяне, казаки, кустари и ремесленники; лица, в силу особых причин занимавшиеся мелкой торговлей, как то: инвалиды труда и войны, торговавшие по бесплатным патентам Наркомата социального обеспечения, безработные рабочие и служащие (состоявшие на учете посреднических бюро труда); лица свободных профессий, занимающиеся общественно полезным трудом, если они не эксплуатировали чужого труда с целью извлечения прибыли176.
Логично предположить, что в реальной практике перечисленные категории лишались избирательных прав, об этом свидетельствуют и материалы личных дел «лишенцев»177. Поэтому с целью ограничения поступления новых жалоб на неправомерное лишение, а также исходя из практики избирательных комиссий всех уровней по пересмотру дел, перечень был дополнен и детализирован. Перечень категорий лиц, не подлежавших лишению, свидетельствует об уступках субъектам рыночных отношений, какими являлись крестьяне, кустари, ремесленники, безработные, рабочие и служащие, торговавшие на рынках, а также о допущении деятельности частных адвокатов, врачей и учителей. Массовостью лишения избирательных прав, а порой и злоупотреблениями, связанными с этим процессом, можно объяснить включение в текст инструкции 1925 г. пункта №22, по которому «избирательные комиссии не имеют права дополнять перечень лиц, указанных в настоящей главе»178. К сожалению, это положение нарушалось. Материалы личных дел «лишенцев» предоставляют немало тому свидетельств.
Одновременно, положения инструкции 1926 г. позволили более широко распространить ограничения гражданских прав на иждивенцев. «До опубликования инструкций 1926 г. в городских и сельских округах РСФСР на иждивенцев приходилось лишь 9% бесправных членов семей. К 1929 г. иждивенцы, обычно женщины и молодежь, составляли 35% всех бесправных в городских районах и 49% сельских бесправных»179.
Повсеместное расширительное толкование положений Инструкции о выборах, в части ограничений в гражданских правах потребовало корректировать деятельность местных властей. Это беззаконие, даже с точки зрения «революционной законности», достигло такого размаха, что было издано постановление ВЦИК РСФСР от 10 апреля 1930 г., призванное пресечь массовые нарушения.
Было предписано создать специальные комиссии на местах для пересмотра списков лишенных избирательных прав и рассмотрения жалоб. В случае обнаружения неправильного или необоснованного решения специальные комиссии были правомочны исключить гражданина из списков и тем самым восстанавливать его в избирательных правах. Необоснованными считались те решения, которые были вынесены на основании документально неподтвержденных сведений.
В ходе работы спецкомиссий восстанавливались в правах и те граждане, которые были ранее лишены прав как члены семей «лишенцев» и достигли совершеннолетия после 1924 г. Чтобы пресечь злоупотребления, списки «лишенцев», разработанные в ходе предвыборной кампании, предписывалось утверждать в вышестоящих исполкомах, без чего они не могли быть опубликованы. Отмечалось, что никакие органы и организации, например: фабзавкомы, месткомы, домоуправления, колхозы, бригады и т. п., кроме местных советов и их президиумов, не имеют права лишать каких бы то ни было граждан избирательных прав. Это положение косвенно свидетельствует о том, что такие решения принимались этими организациями.
Постановление акцентирует внимание на неправомерном и расширительном толковании норм. В пункте 9 говорилось: «Предложить ЦИКам автономных республик, краевым и областным исполкомам, наркоматам и кооперативным центрам РСФСР и другим учреждениям и организациям в десятидневный срок отменить все постановления, циркуляры и распоряжения, устанавливающие какие-либо дополнительные ограничения, установленные только по признаку лишения избирательных прав и не предусмотренные законодательством Союза ССР и РСФСР, в отношении лиц, лишенных избирательных прав, и членов их семей, как то: выселение из квартир, городов, рабочих поселков, сельских и других местностей, лишение заборных книжек [дающих право на нормированное получение продуктов. – А. К.], лишение медицинской и юридической помощи, отказ в приеме жалоб и выдаче справок, исключение детей из школ, исключение из членов промысловых артелей, раскулачивание, обложение в индивидуальном порядке налогами и сборами, лишение права застройки, муниципализации строений и т. п.»180
К числу неназванных относились следующие ограничения: невозможность служить в кадровых частях Красной армии, а лишь в тыловом ополчении; запрет на поступление в высшие учебные заведения. Крестьяне-«лишенцы» не могли замещать должности сельских исполнителей, в чьи функции входило созывать народ на сход. Это ограничение было связано с необходимостью заплатить дополнительный налог. «Лишенцев» не принимали на работу в государственные организации, и они в первую очередь подвергались увольнению.
Комплекс дискриминационных норм и правил, который накладывался на гражданина, позволяют Ш. Фицпатрик говорить о «лишенцах» как об определенной сословно-классовой группе181. По мнению Г. Алексопулос, правовой статус «лишенцев» напоминал «статус евреев и цыган в Третьем Рейхе, которые характеризовались как паразиты, воры и бездельники, были отстранены от должностей гражданской службы и вооруженных сил, подвергаясь жестокой дискриминации и экономическому разорению, были лишены социальных пособий, доступных только для граждан, и стали жертвами усиления полицейских репрессий»182.
Такие существенные ограничения заставляли человека стремиться к восстановлению в избирательных правах. Стимулом было не только избавление от морального прессинга, но и элементарные соображения выживания. Естественно, что с просьбой о восстановлении обращались те, кто имел шанс на восстановление (имел пятилетний стаж трудовой деятельности, мог доказать лояльность к советской власти, был членом профсоюза и т. д.). Как вариант, с заявлением о восстановлении в правах обращались граждане, которые считали, что лишены избирательных прав незаконно, поэтому требовали восстановления справедливости. Зачастую стимулом к восстановлению являлись потребности членов семьи, которые нуждались в трудоустройстве или планировали получать образование.
По своему духу постановление от 10 апреля 1930 г. было аналогично постановлению ЦК ВКП (б) от 14 марта 1930 г. «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении»183. Постановление от 10 апреля 1930 г. и последующие за ним уточнения и мероприятия властей носили характер кампании и были призваны исправить «искривления на местах», поддержать в народе миф об отеческой заботе государства о своих гражданах. Необходимо отметить, что юридически оформленные ограничения на процедуру лишения избирательных прав и сокращение перечня категорий граждан, подпадающих под ограничения, осуществлялись параллельно с процессом свертывания нэпа и, как следствие, сопровождались увеличением числа «неполноправных свободных», дискриминируемых в правовом отношении граждан. На наш взгляд, постановление от 10 апреля было вызвано еще и тем обстоятельством, что лишение избирательного права в начале 1930-х гг. уже не играло столь важной роли в арсенале борьбы с «классово чуждыми элементами». Государственная машина, выстроенная по авторитарному типу, уже набрала силу и была готова применить к «врагам народа» более радикальные меры. Гипотеза об обострении классовой борьбы в период строительства социализма нуждалась в фактическом подтверждении.
Как отмечает Г. Алексопулос, ежегодные данные о количестве людей, лишенных избирательных прав в РСФСР, остаются противоречивыми, но в пиковые годы политики советская государственная бюрократия зарегистрировала около четырех миллионов [выделено нами. – А. К.] бесправных людей184. По данным переписи 1926 года, население РСФСР составляло 92,8 млн человек.
При этом численный состав «лишенцев» напрямую отражал колебания государственной политики в отношении частного предпринимательства, со всеми его взлетами и падениями. «Начиная с 1930 года число лишенных гражданских прав стало сокращаться в регистрах местных органов государственной власти. Цифры на бесправных как процент избирателей, показал резкий рост в кампании 1926—1927 гг., незначительное увеличение с кампании 1928—1929 гг., а затем резкий спад с кампании 1930—1931 гг.»185.
Региональные особенности в процессе лишения избирательных прав нуждаются в дальнейшем исследовании. Г. Алексопулос обращает внимание на существенный разброс в процентах лишения по различным субъектам СССР и РСФСР. «Методы учета и отслеживания населения без прав едва ли представляют собой точную науку, а цифры о количестве изгоев часто варьируются в различных источниках. Тем не менее, можно видеть поразительную картину этнических анклавов, сообщающих о более высоких, чем в среднем, показателях численности их бесправного населения. В избирательной кампании 1926—27 и 1928—29 гг. РСФСР сообщала примерно о 3—4% сельских и 7—8% городских лишенцев от имеющих право голоса. По сравнению с этими цифрами, 13% голосующих […] было бесправными в Калмыцкой АССР в 1928—29, и Крымская АССР, указавшая 8,7% без прав в 1928—29. Московская область лишила избирательных прав 3—6% населения избирательного возраста в 1928—29 годах, в то время как Северная Осетия – 7,6%, Бурят-Монгольская АССР – 7,6% […] В городских районах Татарская АССР зарегистрировала 12% бесправных на выборах в советы в 1926—27 гг., а изгои Узбекской ССР в кампании 1928—29 гг. составили 13,7%. Кроме того, в конце 1920-х гг. исключение этнических групп не стало обычным явлением. Еще в 1924—25 гг., когда в РСФСР были лишены избирательных прав 1—3% населения, такие города, как Одесса и Житомир, лишились избирательных прав 9,9% и 11,3% соответственно»186.
Автор делает однозначный вывод о том, что «нерусские гораздо чаще теряли свои права, чем русские, и по причинам, связанным с их экономической практикой, а также культурными традициями»187.
По нашим данным, представители «нацменов», формировавшие диаспорный уклад, были активно вовлечены в самые разнообразные и специфические виды торговли, что влекло за собой лишение избирательных прав.
В фонде Уральского областного исполнительного комитета советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов хранятся документы областной избирательной комиссии, в компетенцию которой входило рассмотрение ходатайств граждан о восстановлении в избирательных правах, не удовлетворенных в комиссиях низового уровня. В частности имеются списки лишенных избирательных прав по городу Екатеринбургу, составленные 15 октября 1924 г.188
Два списка разделены по признаку – основание для лишения: первый на основании ст. 65, второй в соответствии со ст. 23 Конституции РСФСР 1918 г. В первый список включены: священники, торговцы и совладельцы торговых предприятий, предприниматели, занятые ремесленным или промышленным производством (в т. ч. ассенизаторы, парикмахеры, владельцы часовых мастерских и пекарен и т. п.), а во второй – состоящие на учете в Государственном политическом управлении, в том числе: административно-высланные, перешедшие границу и бывшие белые офицеры.
Списки содержат сквозную нумерацию и включают в себя 3208 записей, соответственно – 2053 записи в первом и 1155 во втором. При этом в Екатеринбурге-Свердловске в 1923 г. проживало 97 400, а в 1926 г. – 140 000 человек189. Если ориентироваться на ближайший к 1924-му 1923 г., то, согласно составленным спискам, 3,29% горожан были лишены права избирать и быть избранными.
Поскольку объектом наших исследований длительное время являлись частные предприниматели, то наше внимание сосредоточено именно на них190. Частные торговцы являлись самой многочисленной группой среди «лишенцев». Среди них было не только много представителей различных этносов, но и подданные различных государств.
Нами был проанализирован первый список, поскольку основное внимание мы уделяли частным торговцам, которые составляли абсолютное большинство (1679 чел.), 374 гражданина были лишены избирательного права по иным основаниям.
Каждая запись состоит из трех позиций: фамилия, имя, отчество гражданина; вид деятельности в настоящее время, который явился основанием для лишения избирательных прав; а также статья Конституции, на основе которой было принято решение о лишении. Последняя запись стандартная и воспроизводится без изменений «Согласно п. „В“ Статьи 65 Конституции».
Из общего числа торговцев (1679) в 1466 случаях фамилия, имя и отчество были указаны полностью, а в 213 случаях в сокращенном или урезанном виде. Это обстоятельство могло повлиять на судьбу человека, поскольку в материалах личных дел «лишенцев» есть жалобы на то, что гражданин был лишен избирательных прав по ошибке, что его перепутали с другим гражданином.
При анализе торговцев выяснилось, что некоторые записи дублируют друг друга. После анализа нами были исключены записи, определенно совпадающие друг с другом, в отношении 15 записей остались сомнения в их дублировании, по этой причине они были сохранены в общем перечне. Таким образом, нами проанализировано 1626 записей, относящихся к торговцам. Причины, по которым одни и те же граждане внесены в список дважды, могут быть следующие. Во-первых, техническая ошибка и невнимательность машинистки. Во-вторых, дублирование документов, на основании которых производилось лишение. По одним документам гражданин проходил как торговец, выбравший патент на промысловое занятие, а по другим – числился совладельцем торгового предприятия, в котором сам не вел торговлю. Третья причина носит более сложный и труднодоказуемый характер. Как полагает Г. Алексопулос, местные чиновники искусственно расширяли списки лишенных избирательных прав, желая продемонстрировать свою бдительность и «перевыполнить план» по очистке списков избирателей от неблагонадежных элементов. По факту, в списки включали несовершеннолетних детей, уже восстановленных в избирательных правах и даже умерших. Традиция использования «мертвых душ», по всей видимости, глубоко укоренилась в бюрократической практике. Г. Алексопулос пишет: «Даже маленькие дети появлялись в списках бесправных, поскольку местные чиновники пытались удовлетворить своих начальников, но в то же время оставляли свои общины относительно незатронутыми. На Северном Кавказе и в других местах дети в возрасте от одиннадцати до шестнадцати лет были обнаружены в списке бесправных, и один сельский совет в Коми включил в свой список детей в возрасте до одного года. Должностные лица также внесли в свои списки имена погибших, выехавших из региона или уже восстановивших свои права»191.
Из числа занятых торгово-посреднической деятельностью (1626 чел.) непосредственно числились торговцами 1549, а 77 являлись совладельцами торговых предприятий.
Поскольку этническая принадлежность предпринимателей не указана, ее можно весьма условно определить исходя из особенностей имен, отчеств и фамилий. Разумеется, такая идентификация далека от строго научной, поэтому в ряде случаев определить этническую принадлежность невозможно. Особенно это сложно с представителями азиатских стран. Даже обращение за консультацией к носителям языка не позволило определить точную этническую принадлежность гражданина. Особенности звучания их имен и отсутствие строгих правил транслитерации не позволяют провести достоверную идентификацию. По этой причине граждане китайского или корейского происхождения оказались в одной группе – граждане азиатского происхождения – 79 человек. Граждане еврейского происхождения – 113, тюркского – 184 и славянского – 1079. В остальных случаях это оказались граждане, которые относились к иным этническим группам, не подходящим под четыре основные, выделенных нами. К этой же категории относились те, чью этничность даже приблизительно не удалось определить, поскольку при записи были использованы краткие наименования, либо этничность не «считывалась». Это обстоятельство не позволило определить и пол некоторых «лишенцев», практически полностью это оказалось невозможно сделать в отношении представителей азиатских стран. Всего же из тех, кого удалось идентифицировать – 1001 мужчина и 531 женщина.
Списки по городу Екатеринбургу демонстрируют высокую экономическую активность городского населения в целом и торговцев в частности. Отметим широкое представительство различных этнических групп и активное вовлечение в торговлю женщин, особенно оставшихся без кормильца и вынужденных самостоятельно обеспечивать не только себя, но и своих малолетних детей.
163
Алексеев С. С. Теория права. М.: Издательство БЕК, 1994. С. 206.
164
Алексеев С. С. Теория права. С. 207.
165
Килин А. П. Категории граждан, лишенных избирательных прав в 1920-е годы (анализ инструкций о выборах в советы) // История репрессий на Урале: идеология, политика, практика (1917—1980-е годы). Сб. ст. участников науч. конф. Нижний Тагил: НТГПИ, 1997. С. 95—105.
166
Для краткости эту категорию граждан называли «лишенцами», что подразумевало негативную коннотацию. Идя вслед за источником, мы используем этот термин, но считаем целесообразным помещать его в кавычки.
167
Alexopoulos G. Stalin’s Outcasts… p. 16.
168
Инструкция о строительстве советской власти в Екатеринбургской губернии. Екатеринбург: Уральское обл. гос. изд-во, 1920. Ч. 1—2. 1920.
169
Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов советов. Декрет Всероссийского Центрального исполнительного Комитета №603 от 13 октября 1925 года // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. №79, 1 декабря 1925. Отдел первый. С. 955—603.
170
Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских советов и о созыве съезда советов: Декрет Всероссийского Центрального исполнительного Комитета №577 от 28 сентября 1926 года // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. №75, 26 ноября 1926. Отдел первый. С. 888—896.
171
Об утверждении инструкции о выборах в советы и на съезды советов РСФСР: Постановление Всероссийского Центрального исполнительного Комитета №654 от 20 октября 1930 года // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. №54, 12 декабря 1930. Отдел первый. Государственное устройство и управление. С. 845—858.
172
О мерах к устранению нарушений избирательного законодательства и об упорядочении производства дел, касающихся избирательных прав граждан: Постановление Всероссийского Центрального исполнительного Комитета №233 // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. №18, 10 апреля 1930. Отдел первый. Государственное устройство и управление. С. 261—263; О разъяснении п. 5 постановления Президиума ВЦИК от 10 апреля 1930 г. «О мерах к устранению нарушений избирательного законодательства и об упорядочении производства дел, касающихся избирательных прав граждан»: Постановление Всероссийского Центрального исполнительного Комитета №278 // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. №22, 30 апреля 1930. Отдел первый. Государственное устройство и управление. С. 326.
173
Инструкция о строительстве советской власти в Екатеринбургской губернии. С. 23.
174
Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов советов. Декрет Всероссийского Центрального исполнительного Комитета №603 от 13 октября 1925 года. С. 958.
175
Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов советов. Декрет Всероссийского Центрального исполнительного Комитета №603 от 13 октября 1925 года. С. 959.
176
Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских советов и о созыве съезда советов: Декрет Всероссийского Центрального исполнительного Комитета №577 от 28 сентября 1926 года. С. 891.
177
Социальный портрет лишенца (на материалах Урала): Сб. документов / Отв. ред. Т. И. Славко. Екатеринбург: УрГУ, 1996.
178
Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов советов. Декрет Всероссийского Центрального исполнительного Комитета №603 от 13 октября 1925 года. С. 960.
179
Alexopoulos G. Stalin’s Outcasts… p. 27.
180
О мерах к устранению нарушений избирательного законодательства и об упорядочении производства дел, касающихся избирательных прав граждан. С. 263.
181
Фицпатрик Ш. Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН): Фонд Президентский центр Б. Н. Ельцина, 2011. С. 9.
182
Alexopoulos G. Stalin’s Outcasts… p. 28.
183
См.: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Док-ты и мат-лы. Т. 2. Ноябрь 1929 – декабрь 1930. М.: РОССПЭН, 2000. С. 303—305.
184
Alexopoulos G. Stalin’s Outcasts… p. 3.
185
Alexopoulos G. Stalin’s Outcasts… p. 87.
186
Alexopoulos G. Stalin’s Outcasts… p. 58.
187
Alexopoulos G. Stalin’s Outcasts… p. 60.
188
ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 9. Д. 2. Л. 1—94.
189
Всесоюзная перепись населения. 1926 год. Уральская область. Отдел II. Занятия. Отдельный оттиск табличной части тома XXI. Москва: Издание ЦСУ СССР, 1929. 432 с.
190
Килин А. П. Частная торговля и кредит на Урале в годы нэпа: экономические, политические и социальные аспекты: Научная монография. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. С. 527—562.
191
Alexopoulos G. Stalin’s Outcasts… p. 71