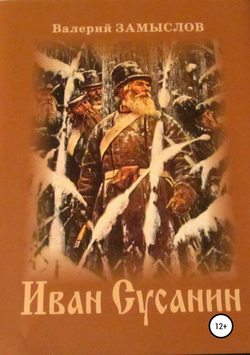Читать книгу Иван Сусанин - Валерий Александрович Замыслов - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Книга первая Через напасти и невзгоды
Глава 19. Ростов Великий
ОглавлениеНа невысоком холме высился белокаменный собор Успения Пресвятой Богородицы. Плыл по Ростову малиновый звон. По слободам, улицам и переулкам тянулись в приходские храмы богомольцы.
– Знатно звонят, – перекрестился на собор Иванка.
Вступили на Покровку. У деревянной церкви Покрова, что на Горицах, толпились нищие. Слобожане степенно шли к обедне, снимали шапки перед храмом, совали в руки нищим милостыню.
Показались трое конных стрельцов в красных кафтанах. Зорко оглядели толпу и повернули к Рождественской слободке, спускавшейся с Гориц к озеру.
– Ищут кого-то, – молвила Сусанна.
– Лиходея, – услышал Сусанну невысокий чернобородый мужичок в сермяге99, кой словоохотливо продолжал:
– На торгу с ярыжкой полаялся. Двинул ему в ухо – и тот копыта кверху, едва Богу душу не отдал. А парнище из кузнецов, кулаки пудовые, на потеху людям подковы разгибает и цепи рвет. Силен, детинушка!
Мужичок рассказывал о «лиходее» с похвальной улыбкой.
– А вы, мню, не ростовцы. Никак из дальней деревеньки притащились.
– Как угадал-то? – полюбопытствовала Настенка.
– Э-э, милушка. Годок, другой поживешь в Ростове, и всех в лицо будешь ведать. Это те не Москва-матушка. Чай, прикупить чего удумали? Могу совет дать. На торгу деньга проказлива, оплошного бьет. Коль есть денежка, ступай за мной.
Глаза у мужичка лукавые, с хитринкой.
– Шел бы ты, мил человек, – нахмурился Иванка. – Без тебя обойдемся.
Мужичок хмыкнул:
– Ну, да Бог с вами. Вам на торжок, а мне в кабачок.
– Шебутной, – улыбнулась Сусанна.
– А мне Слота сказывал, что все ростовские мужики шебутные, – молвил Иванка.
Ни Сусанна, ни Иванка никогда не бывали в Ростове, но хозяин торговой подводы, с коим они распрощались в начале слободы, уведомил:
– Зрите златые маковки храма? То – Успенский собор, а неподалеку от него покои владыки. Туда и ступайте. А мне надобно к одному посадскому человеку завернуть.
Шагая слободой, Иванка примечал курные избенки, и за каждой – огород, засеянный луком, чесноком, редькой, хреном, огурцами, репой и хмелем. Дивился на изобилие чеснока и лука, ибо, где бы они ранее не жили, такой большой доли в огородах не видели. Не зря, выходит, в народе, когда рассказывают про сей город, посмеиваются: «У нас-то в Ростове, чесноку-ти, луку-ти!».
Дивился Иванка и на изобилие церквей, их гораздо больше, чем в Ярославле. Недаром епархия издревле обосновалась в Ростове, поглотив в себя и Ярославль и Углич. «Ездил черт в Ростов, да напугался крестов». Воистину! Куда ни глянь – храм.
Каждая слобода на посаде имела церковь, все они были деревянные, клетского типа, наиболее нехитрого в возведении, и только в Никольской и Варницкой слободах стояли более нарядные церкви шатрового типа. Поблизости с некоторыми церквами стояли «трапезы теплые» – большие избы для зимних общих собраний – «десятин». Все «десятины», а их было в городе семь, носили названия церквей. Улицы на посаде назывались Воеводская, Проезжая, Пробойная, Мостовая, Абакина, а слободы Сокольничья, Рыболовская, Ямщицкая, Кузнецкая, Пищальная, Ладанная, Сторожевая, Никольская, Луговая.
Хозяин подводы дорогой рассказывал:
– Церквей в Ростове – тьма тьмущая. Даже на реке Ишне, что в трех верстах от города, церквушку срубили. Известное местечко. Там деревушка Богослово на берегу, и храм тем именем назван100.
– Чем же местечко известное?
– А тем, паря, что через реку проходит дорога из стольного града в Ростов, Ярославль, Вологду и Архангельск. До самого Белого моря101. И всем надобен перевоз. А перевозом владеет Авраамиевский монастырь. Сколь раз монахи из моей кисы102 деньгу вытряхивали, и не малу. Так я один, а коль торговый обоз в три десятка подвод? Вот и прикинь, какая монастырю выгода. Доходное место. А владыка, к коему вы направляетесь, один из самых богатых пастырей на Руси.
Ведал бы Иванка о богатствах Ростовской епархии!
В 1530 году, ростовские епископы получили титул архиепископов, с 1589 г – митрополитов. Они были наделены крупными, земельными владениями и большим числом крепостных крестьян. Богатства Ростовской епархии уступали только богатствам московского митрополита. Владения архиепископа находились в Ростовском, Ярославском, Вологодском, Велико-Устюжском и Белозерских краях.
По переписи конца шестнадцатого века за владыкой числилось 4 тысячи дворов с 15-тью тысячами крестьян. Архиепископ имел свыше четырех тысяч десятин пахотной земли, сенокосных угодий – 2300 десятин. Опричь того, владел многими лесными и рыбными угодьями.
Для обслуги огромного хозяйства архиепископы держали свыше 250 человек: дьяков, подьячих, приставов, кузнецов, хлебников, поваров, портных, конюхов. Для вотчинного управления имелись приказы: вотчинный, казенный и судный…
Ничего пока не ведал об этом Иванка, ему и в голову не приходило, что владыка Давыд так сказочно богат. Да и останутся ли его богатства, когда Ростов любой недруг одолеет, ибо крепостица на ладан дышит. Святые отцы только о храмах пекутся, а о том, что ворог в одночасье всё может разорить и порушить, им и дела нет. И кой прок, что в городе сидит воевода? На что надеется?
Затем шли Ладанной улочкой. Здесь уже избы стояли на подклетях, с повалушами и светелками; каждый двор огорожен тыном. Народ тут степенный да благочинный: попы, пономари, дьячки, владычные служки.
Чем ближе к детинцу, тем шумней и многолюдней. Повсюду возы с товарами, купцы, стрельцы, нищие, блаженные во Христе103, скоморохи.
А вот и Вечевая площадь с торгом. Иванка, Сусанна и Настенка остановились и невольно залюбовались высоким белокаменным пятиглавым собором.
«Чуден храм, – подумал Иванка. – Никак, знатные мастера ставили. Воистину люди сказывают: Василий Блаженный да Успение Богородицы Русь украшают».
Торг оглушил зазывными выкриками. Торговали все: кузнецы, кожевники, гончары, древоделы, огородники, квасники, стрельцы, монахи, крестьяне, приехавшие из сел и деревенек. Тут же сновали объезжие головы104, приставы и земские ярыжки, цирюльники и походячие торговцы с лотками и коробами.
Пошли торговыми рядами: калачным, пирожным, москательным, сапожным, суконным, холщевым, красильным, солодовенным, овощным, мясным…
Настенка запросилась в рыбный ряд.
– Уж так солененького хочу!
Сусанна понимающе кивнула:
– Надо бы зайти, сынок.
Мужики и парни завалили лотки соленой, сушеной, вяленой и копченой рыбой. Тут же в дощатых чанах плавал и живец, только что доставленный с озера: судак, щука, карась, лещ, окунь, плотва…
– Налетай, православныя! Рыба коптец, с чаркой под огурец!
– Пироги из рыбы! Сам бы ел, да деньжонок надо!
Верткий, высоченный торговец ухватил длинной рукой Иванку за рукав армяка.
– Бери всю кадь. За два алтына отдам!
– Соленую рыбешку дай.
– Чего мало?
– Придет время – кадь возьму.
Настенка тотчас принялась за рыбину, а к торговцу подошел новый покупатель.
– Где ловил?
– Как где? – вытаращил глаза торговец. – Чай, одно у нас озеро.
– Но и ловы разные. Поди, под Ростовом сеть закидывал?
– Ну.
– А мне из Угожей надо. Там, бают, рыба жирней.
Угожане торговали с возов, меж коих сновал десятский из Таможенной избы: взимал пошлину – по деньге с кади рыбы.
Один из торговцев заупрямился:
– За что взимаешь, милай? Кадь-то пустая.
– А на дне?
– Всего пять судаков. Не ушли.
– Хитришь, борода. Дорогой продал.
– Вот те крест! Кому ж в дороге рыба надобна? Неправедно берешь.
– Неправедно?! – насупился десятский и грозно насел на мужика:
– На цареву слугу облыжные речи возводишь? Царев указ рушить! А ну, надувала, поворачивай оглобли!
Мужик сплюнул и полез в карман.
Получив пошлину, десятский тронулся дальше, а Иванка головой крутанул: свиреп «царев слуга!»
Супротив Успенского собора стояла церковь Спаса на Торгу или Спас Ружная. Она находилась среди торговых рядов и называлась так потому, что многие годы не имела прихожан, а источником ее существования была «руга» -пожертвования105.
Подле храма секли батогами мужика. Дюжий рыжебородый кат106 в алой, закатанной до локтей рубахе, стегал мужика по обнаженным икрам.
– За что его? – спросил Иванка.
– Земскому старосте задолжал. Другой день на правеже107 стоит, ответил один из ростовцев.
Подскочил земский ярыжка. Поглазел, захихикал:
– Зять тестя лупцует, хе-хе!
Ростовцам не в новость, Иванке – в диковинку.
– Чего языком плетешь? Кой зять?
– Обыкновенный. Не зришь, Пятуню потчует? То Фомка – кат. Залетось Пятунину дочку замуж взял.
– Негоже тестя бить, – нахмурился Иванка.
– А ему что? Ишь зубы скалит. Ай да Фомка, ай да зятек!
Пятуня корчился, грыз зубами веревку на руках, привязанных к столбу.
– Полегче, ирод, мочи нет, – хрипло выдавил он, охая после каждого удара.
– Ничо, тятя. Бог терпел и нам велел, – посмеивался Фомка.
Сусанна дернула Иванку за рукав армяка.
– Пойдем, сынок. Глядеть страшно.
Но Иванка и с места не стронулся, глянул на ярыжку.
– Слышь, мил человек. Сколь задолжал Пятуня?
– Многонько. Ходить ему в холопах. Полтину серебром.
– Развязывай мужика. Я заплачу.
Ярыжка окинул молодого мужика цепкими, прощупывающими глазами. На голове старенький войлочный колпак, армячишко видавший виды, в пеньковых лаптях. Откуда у «деревенщины» такие деньжищи?
– Ты языком болтай, да меру знай.
Иванка вытянул из-за пазухи кису, отсчитал полтину.
– Да ты что, сынок, деньгами разбрасываешься? – всполошилась Сусанна. – Сами еще не ведаем, как жизнь пойдет. Спрячь!
Но Иванка ослушался:
– Не могу зреть, как людей мучают. Развязывай, ярыга!
У ярыжки хищно блеснули глаза. А из толпы донеслось:
– Не отдавай, паря. Себе заграбастает. Ведаем Хотяйку! Из плута скроен, мошенником подбит. Пусть земского старосту кличет.
– Спасибо, братцы.
Иванка спрятал кису, а Хотяйка, зло ощерившись на толпу, неторопко пошагал к Земской избе.
А торг шумел, полнился выкриками:
– Торгую лаптишками, сапожонками, солью в развес и рыбою в рез!
– Налетай на лук с чесноком!
– Бери капустенку и маслишко конопляное!..
Лук, чеснок, хрен и редька пользовались в Ростове (да и в других городах) большим спросом. От всех хворей и недугов. Лук, чеснок да баня всё правят!
Обширная Вечевая площадь вбила в себя многие казенные дворы. Здесь стояли Кабацкий и Гостиный двор (последний поставлен по приказу Ивана Грозного)108, а подле с ними – Съезжая изба. Недалече от нее находилась Житная площадь, где ростовцы и приезжие люди торговали житом и другими товарами. А возле Таможенной избы, коя занималась сбором пошлин, расположилась изба Писчая, где посадские подьячие предлагали свои услуги для написания купчих и других бумаг. Около нее-то и стояла изба Земская, в коей заседали земские старосты и целовальники. Рядом была изба Сусляная да изба Квасная, кои собирали пошлину за продажу кваса и сусла109.
Все казенные избы были деревянными, стояли на подклетях, и Иванка еще не ведал об их предназначении.
Особое место в Ростове занимала Съезжая изба, куда приезжал воевода и «сидел за государевыми делами».
Хоромы же воеводы находились восточнее Вечевой площади, в полуверсте от Торга110.
. За Съезжей избой стояли две тюрьмы: Опальная – для «государевых злодеев» и Губная изба, где судили уголовные дела выборные из дворян – «губные старосты».
Славился Ростов и именитыми купцами: Кекиными, Мальгиными, Щаповыми, Милютиновыми, Хлебниковыми. Купцы Кекины вели торговлю даже с народами, кочующими за Уралом…
Земский староста Демьян Курепа, дородный мужичина, заросший каштановой бородой, явился к правежному столбу с Хотяйкой. Тот указал на Иванку.
– Вот сей человек, Демьян Фролович, норовит Пятуню выкупить.
Курепа, как и ярыжка, был удивлен срядой111 лапотного мужика, однако спросил:
– Сродником будешь?
– Впервой вижу, староста.
– Тогда на кой ляд выкупаешь?
– Жаль стало.
Курепа пожал плечами.
– Доставай полтину.
– Допрежь прикажи мужика освободить.
Курепа кивнул ярыжке, и тот отвязал Пятуню от столба. Мужик не мог подняться с колен. Кат Фомка ухватил тестя за ворот сермяги и рывком поднял на ноги.
– Гуляй, тестюшка, хе!
Староста проверил на язык серебро и подозрительными глазами впился в Иванку.
– Из кой деревеньки притащился?
Иванка помышлял, было, наречь свое село, но вовремя спохватился: человек он беглый, а вдруг земский староста сыск учинит, и тогда беды не миновать. Почему-то ухватился за название села, кое он услышал в рыбном ряду.
– Из Угожей.
– Т-эк, – протянул Курепа и завертел головой. Многих мужиков из Угожей он ведал в лицо. Увидел одного неподалеку, поманил мясистым пальцем к себе.
– Калачей закупил? – и указал рукой на Иванку. – Угостил бы соседа. Оголодал, чу, прытко.
Хитер был Курепа!
– Какого еще соседа? В глаза не видывал.
– Как это не видывал, мил человек? В Угожах живешь и сосельника не знаешь. Угости, не будь скаредой.
– У меня, чай, Демьян Фролович, буркалы не в гузне таращатся. С какого рожна я буду чужака калачом потчевать? У самого семеро по лавкам.
– Т-эк, – вновь протянул Курепа, но теперь уже глаза его стали едкими. – Облыжник112! Уж, не из воровских ли людей?
– Побойся Бога, староста.
А Курепа запустил пятерню в бороду. Не чисто дело! Седмицу назад разбойный люд торговый обоз обокрал, что шел лесной дорогой на Москву. Пятуня же в лесах бортничеством промышляет. Не знается ли он с лихими? Вот и этот, неведомо откуда пришедший детина, не случайно бортника выкупил. Темное дело!
Кивнул ярыжке:
– Кличь стрельцов.
Служилых далеко искать не надо: четверо шныряли по торгу.
– Взять облыжника – и в Губную избу!
Иванка осерчал:
– Спятил, староста. Никуда не пойду!
Оттолкнул могучим плечом одного из стрельцов, и тот аж о правежный столб ударился.
– Царевых воинов бить?! – взвился Курепа. – Вяжи лиходея кушаками!
Но связать Иванку было не так-то просто: вмиг раскидал стрельцов. Те озлились, вдругорядь угрозливо набежали с бердышами113.
– Зарубим, собака!
К стрельцам метнулась Настенка, клещом вцепилась за древко бердыша.
– Не трогайте моего мужа!
Тут и Сусанна подала свой голос:
– Мой сын ни в чем не повинен. Отпустите его, ради Христа!
– Разберемся, женка. Губная изба любой язык развяжет.
– А с бабами что?
– И баб в Губную. Никак, лихая семейка. Кнут – не Бог, но правду сыщет.
99
С е р м я г а – кафтан из грубого некрашеного сукна.
100
Деревянный храм Иоанна Богослова стоял у перевоза с древних времен. Предивный же храм, который стоит сейчас на Ишне, был возведен без единого гвоздя архимандритом монастыря Герасимом при ростовском митрополите Ионе Сысоевиче в 1687 году, построен как памятник. Служба в нем проводилась один раз в год. Для нас этот памятник – вещественное доказательство того, что предки наши свое умение «работать по дереву» могли превратить в творчество, поднять до степени подлинного искусства.
101
Путь от Москвы и Переяславля проходил не там, где сейчас, а севернее, через нынешнее селение Богослов.
102
К и с а – древнее название кошелька.
103
Б л а ж е н н ы е в о Х р и с т е – юродивые.
104
О б ъ е з ж и е г о л о в ы – выборные посадские люди, смотревшие за порядком на улицах, слободах и площадях.
105
Церковь была построена из дерева в 1206 году и во время набега Сапеги и Лисовского разграблена и сожжена. Около сорока лет это место пустовало, а в июле 1654 в Ростове разразилась «моровая язва», да такая сильная, что много людей умирало, и живые не успевали хоронить мертвых. Не зная, как бороться с эпидемией, ростовцы на денежные сборы построили на этом месте деревянный храм, но сильный пожар 1671 года вновь спалил церковь до основания. Каменная же церковь Спаса на Торгу построена на средства горожан в 1685 г. при митрополите Ионе Сысоевиче.
106
К а т – палач.
107
П р а в е ж – править, взыскать. Ежедневное битье батогами несостоятельного должника, являвшееся средством принуждения к уплате долга. Чем больше был долг, тем длиннее срок правежа. В случае неуплаты долга по истечении срока правежа должники (за исключением служилых людей) отдавались в холопы истцу.
108
На месте бывшей Колхозной площади.
109
С у с л о – отвар крахмалистых и сахаристых веществ, из которых приготовляли спирт и пиво.
110
На месте бывшего пожарного депо.
111
С р я д а – старинное название одежды.
112
О б л ы ж н и к – обманщик.
113
Б е р д ы ш – старинное холодное оружие – боевой топор с лезвием в виде вытянутого полумесяца, насаженный на длинное древко.