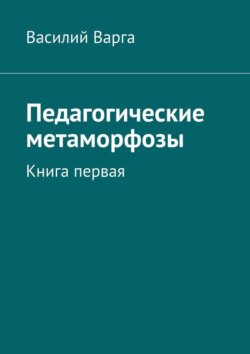Читать книгу Педагогические метаморфозы. Книга первая - Василий Варга - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеНа следующий день, воскресным утром, я отправился в Битцевский лесопарк, простершийся до Кольцевой автомобильной дороги, любовался не только белым снежным покровом, накрывшем землю и скрывшем людскую грязь и грязь животных, но и думал о своем педагогическом болоте, в котором я погрузился до подбородка.
Как высушить это болото, я знал, как знает мать, что нужно ребенку, чтоб он перестал плакать. И не только свое болото я знал, но и всю систему народного образования Москвы, которую смело можно было назвать большим мутным болотом, разбавленным марксистской идеологией.
Конечно, система народного образования столицы хромала на обе ноги. В любой московской средней школе работали в основном представители слабого пола. Любая московская школа представляла собой небольшой женский монастырь, в котором шла постоянная грызня между дамами, порой не на жизнь, а насмерть.
Директор – женщина, завуч – женщина, секретарь партийной организации женщина, председатель профсоюзного комитета тоже женщина. От невероятной скуки, порожденной одиночеством, привычка к коллективному образу жизни, дамы объединялись в маленькие коллективы – группировки и воевали в друг с другом не в одиночку, а группировками. Так было легче.
Однополый состав преподавателей негативно сказывался на учебном процессе: дамы, как правило лишенные семейного счастья, домашнего уюта, чтобы как—то скрыть свое одиночество, отдавали себя с потрохами учебному процессу в школе, но это не могло заменить им тоску по противоположному полу и поэтому они грызлись между собой, как крысы в банке.
Среди них, просветителей науки это – разведенные, брошенные мужьями, оставались с детьми, которые в свою очередь получали образование в школах—интернатах, потому что у матери не оставалось свободного времени на воспитание собственного ребенка.
Мужчина, луч света в темном царстве, был, как правило, физруком, он даже не знал, что вокруг него, точнее его штанов, так много интриг, столько ненависти друг к дружке среди представительниц прекрасного пола.
Директора, тоже дамы, старались не пускать мужчину в школу, исключая физрука, дабы не будоражить голодных, несчастных, но невероятно гордых дам.
Дошло до того, что мужчина подозревался в неполноценности, если он рвался в школу. Мужчина—преподаватель в школе – это нетипично, это не мужская профессия.
Я, когда искал работу, обошел огромное количество школ в разных районах Москвы. Директора ко мне приглядывались, как чему—то необычному, а потом задавали вопросы, что побудило меня идти в школу преподавателем русского языка и литературы? Если я окончил филологический факультет университета, значит я, либо прозаик, либо поэт и должен работать по крайней мере в редакции какой—нибудь газеты, но никак не в школе.
Если это не помогало, директор мне устраивала экзамен по русскому языку. Такой экзамен я обычно выдерживал взамен на обещание, что вопрос о зачислении на работу будет рассмотрен в течение двух недель и по истечение этого срока я могу позвонить по такому—то телефону, а на самом деле это был скрытый отказ.
Половая диспропорция, а точнее полное отсутствие мужчин в средней московской школе негативно влияла не только на воспитание, но и на широту познания мира любого школьника, в особенности мальчиков. Грызня не на жизнь, а насмерть одиноких дам, живущих на скудную учительскую зарплату и содержащих ребенка, а то и двух без отца при отсутствии мужской ласки и страдая от неудовлетворенности, предназначенной самой природой, – все это не способствовало профессионализму преподавателя. В результате выходило так, что, скажем, закон Ома, выведенный сто лет назад и представленный в школьном учебнике, изучался как марксистский постулат, без учета современных достижений в физике и других наук: женщины от этого были далеки, как от спутника, опоясывающего кругами земную орбиту.
От кого зависел набор учителей в среднюю школу? От директора, конечно и еще от инструктора райкома партии. Но кто был директором в средней школе? Женщина, конечно. Она боялась мужчин как огня, дабы в школе спокойная жизнь не нарушилась. Кто назначал директора в школу? Райком партии и главк по народному образованию Москвы. Но и там, и там были прелестные дамы, от которых зависело, кто будет директором той или иной школы. К тому же, мужики не рвались в школу по той простой причине, что в школе они могли рассчитывать на мизерную зарплату, равную зарплате дворника.
Вдобавок ко всем прелестям школьного образования следует добавить социалистическую нищету в школьном образовании. Это отсутствие нормальных наглядных пособий, технических средств и особенно мебели. Плохо сваренные железные тонкие ножки, прикрытые куском фанеры, прикрепленной шурупами быстро, портились под вертлявыми учениками, полностью выходили из строя, а парты, изрезанные тонюсенькими ножиками из чего угодно, разрисованные химическими карандашами – вот печальный вид любого кабинета московской школы.
В ПТУ была несколько другая картина. ПТУ выросли или вылупились из ремесленных училищ, ФЗУ (школа фабрично заводского обучения) и только в 1959 году ФЗУ было переименовано в ПТУ (профессионально—технические училища). Здесь работали в основном мужчины. В отличие от школы, ПТУ находилось на полном государственном обеспечении. Это бесплатное питание, обмундирование, жилье для иногородних в системе Главмосстроя, который так же обеспечивал лимитную прописку в Москве, и небольшая оплата за производственную практику. Преподаватели в ПТУ обеспечивались обедом за сугубо символическую цену, но можно было позавтракать и поужинать за те же четыре рубля в месяц. Это была малозаметная, но существенная компенсация все той же скудной зарплаты преподавателя или мастера производственного обучения, хотя и мастер и преподаватель получали материальную помощь, премию по кварталам и многие другие привилегии, как, скажем, бесплатные путевки от базового предприятия в санатории и дома отдыха.
При умелом руководстве коллективом ПТУ, можно было отнести к привилегированному учебному заведению по сравнению со средней школой. Но в СССР ни одна хозяйственная единица не обходилась без пороков, мягко говоря, без недостатков. Педагогические коллективы ПТУ страдали грамотностью, отсутствием культуры, методики преподавания. Атмосфера рабочего класса базового предприятия, подобно гриппу, без спроса, топорно и грубо внедрялась в учебное заведение и часто напоминала учебный комбинат по повышению квалификации.
В ПТУ попахивало спиртным, матом и подзаборной лексикой – мужики, куда деваться?
Особенно эта проблема возникла при переходе учебных заведений на среднее образование наряду с получением профессии, когда срок учебы возрастал до трех лет, вместо года или двух.
Вся жизнь, морально—психологический климат в училище зависел от директора. Если директор был педагогом в душе, если не баловался сивухой, если был собранным и энтузиастом в работе, ПТУ могло обскакать любую московскую школу по всем параметрам обучения и воспитания молодежи.
Подбором директоров, как правило мужского пола, занималось Главное управление ПТУ Москвы, возглавляемое Солодкой, которая плавала в педагогике и других вопросах подбора кадров, как хромая утка.
Перетасовав все эти проблемы в голове, я невольно вернулся в свое ПТУ, которое заняло все мое свободное место в моем внутреннем пространстве.
Такого бардака, как в 55 ПТУ, видимо, найти было невозможно, и в этом вся вина директора Наумочкина, человека пустого, малограмотного, малодушного, который пропустив несколько стаканов сивухи через горло, становился жалким, как подзаборный пьяница—попрошайка.
И я пришел к чужим мне людям, которых стыдно было называть педагогами. Это были морально разложившиеся личности, правда, не все. Среди них были и чистые душой и сердцем, но они ничего не могли сделать, и притаились. Они ждали меня.
Поменять педагогов на других, достойных, способных поддержать те идеи, которые сыпались, как из рога изобилия, оказалось непросто. Любой мой шаг, даже запятая, не там поставленная в приказе, могла привести к тому, что суд мог отменить мой приказ, и я тут же был бы посажен в лужу.
Мне пришлось напрячь свой ум, все свои способности, чтоб в течение двух лет избавиться от совершенно негодных работников. Пришлось воевать на два фронта: с одной стороны с негодным работником, а с другой с Главком, точнее с начальником Главка по профессинально—техническому образованию Москвы Солодкой Зоей Ивановной. Зоя Ивановна была назначена руководителем оркестра, не будучи скрипачом, вся ее ценность, как руководителя состояла в преданности марксизму. Горком партии учел это и назначил ее на высокую должность.
* * *
Битцевский лесопарк внутри кольцевой автомобильной дороги, так похож на огромны подмосковный лес, в котором так мало народу выходящего прогуляться, его никто не убирает, старые больные подгнившие деревья валятся от ветра, их так много мертвых, гниющих на поверхности, что, право, становится жалко. Они наводят тоску, напоминают о том, что ничего вечного нет, что каждого из нас постигнет та же участь угаснуть. Битцевский лес не самый лучший на земле, в нем дремлет северная красота, он хранит влагу и чистый воздух. Это рай, пусть и скудный для человека, который с утра до вечера сидит в каменном мешке городского благоустроенного дома.
Зато осенью, когда умирает его листва, его золотая окраска издает божественную красоту, которую не может описать никакое перо художника слова, разве что это может сделать современный аппарат, фиксирующий мгновение, либо пленка видео аппарата.
С увеличением населения вокруг Битцевского парка, в летний период стали дымить костры. Это счастливые граждане жарили шашлыки, распевали песни, дрались, облагораживали деревья сочным русским матом, но никто за собой не убирал посуду, бутылки, недоеденные куски хлеба, ветчины и колбаски ценой в 2 рубля 40 копеек. И тем не менее это были легкие юго—запада столицы. Здесь сохранилось несколько деревень, один санаторий (Узкое) и огромный яблоневый сад, но все это уже никем не охранялось. Видимо эта территория, находившаяся внутри кольцевой автомобильной дороги, уже принадлежала городу. А раз это так, городские власти запланировали строительство огромного микрорайона Ясенево.
А пока лесом, полями к обеду я добрался до кольцевой автодороги и повернул обратно. Голова была занята одним и тем же: как быть? с чего начинать завтра, когда я погружусь в этой кипящий котел с его нравами, привычками, традициями, которых конечно же нет на огромном советском пространстве. Поражала, прежде всего, атмосфера, которая сложилась в коллективе, руководителем которого я был назначен. Взрослые люди, с образованием, скудным, правда, но неплохим жизненным опытом, воевали друг с другом не на жизнь, а на смерть, а к учебному процессу относились как к тяжелой нагрузке и увиливали от работы, как только могли. Девиз был простой и ясный как божий день: чем меньше учеников на уроке, тем легче проводить такой урок. А то и вовсе оставить одних ребят, дав им задание, а самим выйти в коридор посудачить о том, о сем, посоветоваться, на кого бы накатать очередную кляузу в райком партии, или в комитет партийного контроля.
Распутство и пьянство, полное моральное разложение, и низкая духовная культура, пьяные оргии, – таковы краткие особенности почти каждого члена педагогического коллектива. Может, потому, что нечего было дать молодежи: за душой ничего не было. Духовная нищета, моральная и нравственная убогость и беспрекословная верность идеям светлого будущего, сводили их на один уровень с учениками по знаниям тех предметов, которые они преподавали. Все, на что они были способны это назвать номер страницы в учебнике и потребовать, чтоб ученики конспектировали. Но у учеников даже не было тетрадей и ручек. Вместо ведения конспектов, они перочинными ножами делали бороздки на партах, типа Ваня + Маня = любовь. И это не где—нибудь, в тьму тараканьи, это в Москве, столице государства. Какой пассаж! Я уверен, что даже сейчас, кто—то, прочитав эти строки, назовет их злым вымыслом. Но я нисколько не кривлю душой.
На самом деле, все обстояло гораздо хуже, ведь я не знал и не мог знать всего, что творилось по ту сторону директорского кабинета.
С кем можно браться за дело, думал я, шагая вдоль огромного сада, где почему—то отсутствовал сторож. Я вспомнил поговорку: один в поле не воин, но тут же пришла на ум и перевернутая поговорка: и один в поле воин. Уж если я согласился быть этим воином, то я должен проявить выдержку и быть беспощадным к каждому горе—педагогу, случайно ступившему на педагогическую стезю. Необходимо было приступить к непопулярному в то время методу руководства – отказаться от воспитания кадров и немедленно приступить к разгону этих кадров и набору новых, с которыми можно браться за дело.
До каких—то педагогических новшеств было далеко, как до луны, необходимо был сначала навести элементарный порядок, перекрасить стены, залатать крышу, чтоб вдоль стен не стекали струйки воды, сменить мебель, выгнать негодных работников, всех до единого и набрать новых светлых, красивых, образованных, способных что—то дать молодежи.