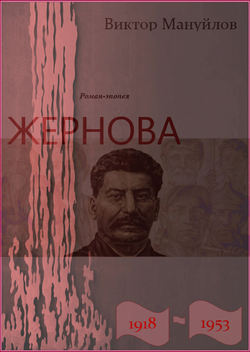Читать книгу Жернова. 1918–1953. Роман-эпопея. Книга пятая. Старая гвардия - Виктор Мануйлов - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 16
Глава 23
ОглавлениеДвери распахнулись, и в библиотеку, – без доклада сумрачного Крючкова, – один за другим вошли четверо. Троих Алексей Петрович знал, не близко, но все-таки: писатель Исаак Бабель, поэт Исаак Фефер, журналист Михаил Фридлянд, больше известный по литературному псевдониму как Кольцов, – все довольно известные люди, составляющие так называемое одесское братство – нечто вроде масонской ложи; четвертого видел впервые. Но едва тот заговорил, узнал по голосу, иногда звучащему по радио: Соломон Михоэлс, актер еврейского театра.
Вошедшие заполонили благоговейную тишину библиотеки своими громкими голосами, перетекающими с места на место подвижными фигурами, беспрерывно меняющимися лицами, так что создавалось впечатление, будто вошло не четверо, а вдвое- втрое больше, – и все какие-то одинаковые… нет, не одинаковые, а точно части нерасторжимого целого.
Горький остался сидеть, остался сидеть и Алексей Петрович. Пришедшие подходили, жали руки, радостно улыбались, вид их свидетельствовал, что они довольны жизнью, счастливы, добились всего, чего хотели, что вообще все идет хорошо и все тоже должны быть довольны жизнью и счастливы вместе с ними, но быстрые взгляды их выдавали тревогу, точно люди эти пытались понять, о чем тут говорили, не о них ли, и как говорили, хорошо или плохо?
Пришедшие вели себя запросто, они явно были завсегдатаями горьковского дома. Да и сам Алексей Петрович стороной слыхивал, что есть категория лиц, для которых вход в дом Горького открыт в любое время и без всякой предварительной договоренности. Ходит даже анекдот, что Горький потому окает по-нижегородски, что никак не может выучиться картавить по-одесски: нет, мол, у человека склонности к иностранным языкам.
«Так это и есть та элита русской литературы, в которую ты так стремился?» – спросил Алексей Петрович у самого себя и усмехнулся.
– А вот вы усмехнулись… – вдруг склонился в его сторону Михоэлс, многозначительно выпятив нижнюю губу, и уставился хитренько сощуренными глазами в лицо Алексею Петровичу.
И все тоже уставились на него хитренько же. Лишь Горький – с тревогой и ожиданием.
– Бьюсь об заклад: вспомнили новый одесский анекдот, – подсказал Бабель и снисходительно улыбнулся толстыми, вывернутыми губами.
– Нет, петербургский, еще дореволюционный, – нашелся Алексей Петрович, входя в ту атмосферу опасной игры, которая установилась в библиотеке с появлением этих в чем-то одинаковых людей.
– Во-от… – произнес Горький, откидываясь на спинку стула с явным облегчением: боялся, видать, что Задонов скажет что-нибудь не то. – Вот мы рассуждали здесь с Алексеем Петровичем о свойствах литературного языка… Да-а. Порассуждали и пришли к выводу, что язык есть средство, а не цель писателя, что главное для художника – мысль, идея, чувство. Язык должен быть прост в своем разнообразии, своей индивидуальности, мысль, наоборот, сложна, идея совершенна, чувства возвышенны. В молодости я этого не понимал, теперь вот стыдно…
– Ах, как вы правы, дорогой Алексей Максимович! – воскликнул Бабель, закатил глаза и причмокнул языком от удовольствия. – Именно на ваших произведениях я учусь совершенству русского языка, многомерной емкости его слова. – И уточнил с нажимом, склонив круглую голову, точно клюнул что-то невидимое утиным носом: – У вас и у товарища Сталина. Я недавно перечел речь товарища Сталина на последнем съезде партии, так вы знаете… такая уже бездна мысли и такая доступность выражения! Уверен, что если бы товарищ Сталин имел время писать романы, никто из нас не смог бы сравниться с ним по гениальности! Куда там всем Толстым и Достоевским!
– Да, товарищ Сталин, разумеется… Кхм… Но я имею в виду не политический язык, а сугубо литературный, художнический, – попытался вернуться к своим рассуждениям Горький, но все вдруг как-то разом загалдели, из чего Алексей Петрович сделал вывод, что и остальные считают язык докладов товарища Сталина идеальным для произведения любого жанра, что Горький для них не указ, что они сами с усами.
«Вот те раз, – думал Алексей Петрович, пытаясь разобраться во всей этой трескотне. – Чего же здесь больше: лицемерия или наивной веры, что чем выше человек на ступенях власти, тем безграничнее его способности во всех областях человеческой деятельности? Наверное, и то и другое. Ведь они и есть нынешняя власть, они таким образом как бы оценивают самих себя через оценку Сталина. Быть может, если бы Сталин не был грузином, они не так бы старались, потому что окажись на его месте русский, так это как бы противоречило духу интернационализма, а под восторженные славословия Сталину можно и Мейерхольда поднять над куполом театра его имени, и Кагановича над входом в метро, и Дзержинского над Лубянской площадью, и ничтожного Баумана возвеличить, и кого угодно. Тут лесть по расчету. Бабель и на писательском съезде говорил то же самое. И Кольцов. И многие другие. А Мехлис в „Правде“ все это подхватывает и многократно раздувает. Когда же лесть столь откровенна и массова, она перестает быть лестью, переходя в иное качество…»
Но Алексею Петровичу не дали до конца разрешить свое недоумение. Щуплый Кольцов, который задавал тон в этой компании, вдруг повернул к нему голову – и все, как по команде, повернули свои тоже, – и спросил в наступившей тишине:
– А вы, товарищ Задонов, как относитесь к несомненно выдающимся способностям товарища Сталина излагать свои гениальные мысли столь емким, простым и понятным для широких трудящихся масс языком?
– Я думаю, что товарищ Задонов, – попытался придти на помощь Алексею Петровичу Горький, – разделяет общую точку зрения…
– И как же вы ее разделяете в конкретных тезисах? – не унимался Кольцов, наваливаясь плоской грудью на стол.
Все ждали, как Задонов выкрутится из этого щекотливого положения. На лицах присутствующих было написано такое неподдельное любопытство, – даже у Горького, – что Алексея Петровича вдруг начал разбирать смех: в горле запершило, в груди поднялась озорная волна, судорогой свело закаменевшие челюсти, но все эти усилия, как и противодействие им, вылились в неудержимое желание чихнуть: Алексей Петрович взмахнул руками, отвернулся, согнулся, торопливо выдернул из кармана платок, прижал к лицу, всхлипнул, хватая ртом воздух, и… и… – но так и не чихнул.
Отдышавшись, мокрыми от слез глазами весело оглядел собрание и заговорил:
– Дорогие товарищи! Алексей Максимович, с присущей ему прозорливостью, совершенно точно выразил мою точку зрения, то есть, что она целиком и полностью совпадает с точкой зрения, высказанной здесь товарищем Бабелем. Что касается конкретных тезисов, то и они стоят в русле этой точки зрения. Более того, – уже несло Алексея Петровича по зыбким хлябям софистики, – моя точка зрения, как вам всем прекрасно известно, была одобрена самим товарищем Сталиным, что с неизбежной неумолимостью, или, наоборот, с неумолимой неизбежностью, свидетельствует, что мой литературный язык идет в русле языка товарища Сталина, ибо в противном случае товарищ Сталин заклеймил бы мой язык как язык классово чуждый диктатуре пролетариата и советской власти. Что же касается языка Толстого и Достоевского, то его недостатки, равно как и достоинства, связаны исключительно с их социальным происхождением, но никак не с национальным. Что очень тонко подметил в свое время еще товарищ Ленин, который восхищался языком графа Толстого, – закончил Алексей Петрович, мило улыбнулся и восторженно сияющими глазами еще раз оглядел собравшихся.
– Мда, вот таким вот образом, – прихлопнул Горький ладонью по столу и окутался табачным дымом. В его потускневших глазах Алексей Петрович успел различить искорки добродушного лукавства.
Зато на лицах четверки не отразилось ничего – ни удовлетворения, ни досады. Конечно, они отлично поняли, что он подыграл им, так и не открыв своих истинных мыслей. Они не могут не знать, что истинные мысли его далеко не совпадают с его словами и что он не один такой среди истинно русских писателей. Алексей Петрович был уверен, что эти люди, так близко стоящие к власти, а иные, как, например, Кольцов и Бабель, являются, к тому же, сотрудниками НКВД, – и про Михоэлса говорят то же самое, и про Фефера, – и не скрывают этого, а, наоборот, гордятся своим сотрудничеством, – так вот, что они догадываются, или даже знают наверное о существовании в толще народа течений, скрытых от постороннего глаза, течений, которые оказывают теперь как бы попятное влияние на ход истории, хотя ни силы этих течений, ни их направления не представляют эти случайные в русской литературе люди, как не представляют их ни сам Алексей Петрович Задонов, ни даже Горький, все творчество которого было попыткой определить эти течения и показать их своим читателям. Неспособность понять и определить эти подспудные течения в толще народной пугала одних, обнадеживала других, приводила в замешательство третьих, восхищала четвертых, вызывая в них чувство преувеличенного поклонения.
– И все-таки инженер Перемышлев, герой вашего романа «Перековка», – менторским тоном бил в одну точку Кольцов, – лично у меня не вызывает доверия. Если он и перековался, то исключительно в целях самосохранения, оставаясь в душе все тем же представителем мелкой буржуазии, которая, в случае войны, непременно перекинется на сторону врага. В рассуждениях Перемышлева нет искренности, в его поступках – пролетарской последовательности…
– Ну, я бы так резко не оценивал, – вмешался Горький. – Трудно ожидать, что процесс этот завершится в одном поколении. Да и название романа подразумевает длительность во времени и пространстве. Тут вы, Михаил Ефимович, не правы. Тем более что на подобном недоверии мы уже успели набить себе немало шишек. Именно поэтому я пытаюсь доказать на всех этажах новой власти, что народу надо знать свою историю, «откуда есть пошла земля русская», что без этого знания мы не можем в полной мере использовать те богатства русской литературы, которые создали наши предшественники, начиная со «Слова о полку Игориве» и «Жития протопопа Аввакума» и кончая уходящим поколением писателей, к коему принадлежит и ваш покорный слуга.
– Я все понимаю, Алексей Максимович, – стал оправдываться Кольцов. – Тем более что товарищ Сталин еще в прошлом году выступил совместно с товарищем Кировым против упрощенного, так сказать, толкования русской истории. В данном случае я говорю исключительно о своем ощущении.
– Боюсь, что на ваше ощущение оказывает влияние ваше же прошлое, – не удержался Алексей Петрович. – И, вообще говоря, все мы так или иначе связаны со своим прошлым. Тут уж ничего не поделаешь.
– Мы таки со своим прошлым порвали раз и навсегда! – отрубил Кольцов. – Чего я с уверенностью не могу сказать за других.
И тут прорвало:
– Это верно, далеко не все порвали… Вот Мандельштам, например…
– Ох, и не говорите-таки мне за него! Это ж надо: написать такое за товарища Сталина! Как у него только рука поднялась!
– И что мне особенно таки прискорбно, что такие пасквили пишет еврей. Ну ладно там – Васильев, кулацкий подпевала с замашками национал-социалиста! Или Клюев, поповский прихвостень. А это ж… Даже уже и не знаю, как за это и сказать!
– Ничего, Сибирь их обломает, не таких обламывала…
– Товарищи! А вот Михаил Шолохов в «Тихом Доне» даже и не пытается скрывать свое положительное отношение к прошлому полицейско-казачьего Дона: он его прямо-таки идеализирует, – взлетел к самому потолку голос Бабеля. – Вспомните эпизод, в котором казаки, охранявшие Зимний, пили за здоровье Маркса? Помните? Так это же форменное уже издевательство над марксизмом! Возмутительно!
– А сцена, когда казак, георгиевский кавалер, уличает Подтелкова в неграмотности и пророчит ему смерть на виселице от казаков же! – поддержал Бабеля Михоэлс. – Это же не просто частный случай, это антисоветчина в чистом таки виде, я бы даже сказал: пророчество и заклинание! Ведь Подтелкова таки и повесили уже.
– Я думаю, что не зря говорят, будто этот свой роман Шолохов украл у какого-то белогвардейца, – произнес Фефер. – Почистил, помазал вишневым соком и – готово.
– Нет дыма без огня…
– Зато «Поднятая целина»…
– Ну, ее еще поднимать и поднимать…
– С нашим-то народцем…
– Бухарин прав: обломовщина, нация рабов…
– А что касается казаков, так они только и ждут случая…
– В польскую кампанию тысячи перешли на сторону белополяков…
– А как они резали евреев…
– Им только дай волю…
– Да, это уж точно. Зато Троцкий столько их к стенке поставил…
– А в эмигрантских газетах так прямо и говорится, что «Поднятую целину» мог написать человек, стоящий в оппозиции к советской власти.
– Казак – это крестьянин в кубе, – вклинился Горький в перепархивающие реплики. – И вообще русский мужик хитер и скрытен. Он тебе на первых порах состроит кроткую улыбку, расшаркается, раскланяется. Но в глубине души затаит ненависть… особенно к еврею, который посягнул на его святыни… Я всегда говорил, и даже Ленину, что еврейские большевики должны оставить русским большевикам все эти щекотливые дела с раскулачиванием и расцерковлением. Я говорил об этом и Троцкому, и Ярославскому, и другим еврейским вождям большевизма, чтобы они держались подальше от святынь русского народа, что у них много других дел, более важных… Жаль, что не послушались моих советов. А русского крестьянина я ужасно как ненавижу. Но Шолохов…
– Вы совершенно правы, Алексей Максимович, – перебил как-то уж слишком бесцеремонно Горького Кольцов. – Только не в кубе, а в десятой степени… К тому же русские большевики, как выяснилось это на практической работе, не обладают нужной решительностью именно в тех вопросах, которые оказывали решающее влияние на судьбы революции.
– Нам не приходится разочаровываться в том, что мы свершили. Враг на то и существует, чтобы его уничтожать. А так называемые святыни есть основа, на которой зиждется его сопротивление.
– Зижделось. В начале тридцатых мы этому мужичью показали, в чьих руках власть и что это значит…
– Крестьянин уже не тот…
– Ах, бросьте! Звериный оскал кулацких восстаний – мы это видели, нам это известно не понаслышке…
Они говорили и после каждой фразы поглядывали на Задонова, точно проверяя на нем силу своих слов и его к этим словам отношение. В их взглядах Алексей Петрович улавливал не только торжество победителей, имеющих право судить всех и каждого по своим неписаным законам, но более всего – потаенный страх перед грядущим. Это была иллюстрация к его недавним рассуждениям о Гоголе, о гоголевских притязаниях и страхах. И Алексей Петрович с удивительной ясностью, будто в солнечном луче, проникшем через щель в пыльную затхлость старого сарая, разглядел, что этим людям вовсе не нужен коммунизм, в неизбежной победе которого они так громко и так настойчиво убеждают побежденный ими народ, что им не нужно ни братства, ни равенства, ни свободы для всех и каждого, – особенно – братства и равенства, – и что они сделают все возможное, чтобы ничего подобного в России не осуществилось. Их вполне устраивает нынешнее состояние дел, а какую цену приходится народу платить за это состояние, никого из них не волнует.
И тут же вспомнились строчки из стихов Эдуарда Багрицкого, сборник которого вышел совсем недавно. А в нем что-то вроде поэмы под названием «Февраль», то есть не «Октябрь», нет, а именно «Февраль», открывший герою путь к вседозволенности, к возможности отомстить женщине, которая когда-то не обратила на него никакого внимания:
Я швырнул ей деньги. Я ввалился,
Не стянув сапог, не сняв кобуры,
Не расстегнув гимнастерки,
Прямо в омут пуха, в одеяло…
Я беру тебя за то, что робок
Был мой век, за то, что я застенчив,
За позор моих бездомных предков,
За случайной птицы щебетанье!
Я беру тебя, как мщенье миру,
Из которого не мог я выйти…
Да-да, именно «как мщенье миру», и не более того. А матросы в распахнутых бушлатах с винтовками под мышкой, сопровождавшие героя, – это так, средство для этого мщения, как наган в кобуре. И они таки здорово порезвились в своем безоглядном мщении. И резвились бы дальше, да время повернуло на другое, заставив их вновь приспосабливаться. Показательно, что поэму эту Багрицкий написал не тогда, по горячим следам, а только теперь, осмыслив пройденный путь, но не народом, а им самим… и вот этими, что пялятся на русского писателя Задонова, пытаясь скрыть свой страх. И хотя Задонов и сам побаевается непредсказуемости нынешней власти, хотя ему самому вполне хватило бы «Февраля», однако он знал, за что терпит, – или, по крайней мере, предполагал, что знает, – что терпит ради самой России и ее народа, который ведь никуда не делся и деться не может.
Увиденное и услышанное за эти несколько минут Алексеем Петровичем невероятно раздвинуло горизонты его сознания, охватило не только прошлое, но и будущее на многие десятилетия вперед, и то, что ему представилось там, в этом будущем, не столько потрясло его, сколько как бы приподняло над этими людьми, над запутанной современностью. Он смело, без всякой робости вглядывался в подвижные лица, слушал речи, похожие на выпады фехтовальщиков, но выпады осторожные, прощупывающие, а сам старался больше не вмешиваться в разговор, убедив себя, что пришел сюда в качестве исследователя, обязанного только слушать и только спрашивать. Более того: чувствовал себя разведчиком в стане противника, в обязанности которого входит выяснить все его тайны, и хотя противник тайны свои выдавать будто бы не собирается, всячески подчеркивая, что тайн никаких и не существует, однако делает это таким образом, чтобы Алексей Петрович непременно догадался, что главная тайна – это они сами, и если писатель Задонов не будет с ними, то от него не останется даже воспоминаний. Но эти скрытые угрозы почему-то Задонова не пугали.