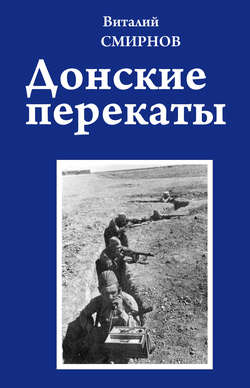Читать книгу Донские перекаты - Виталий Смирнов - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава третья. Харьковская катастрофа
1
ОглавлениеНесмотря на то, что оборона Москвы, перемежавшаяся наступлениями и контрнаступлениями советских войск, стоила нам немалых жертв, Сталин был доволен результатами сражения («утёрли нос извергу») и не скрывал этого. Он стал разговорчивее, улыбчивее, но, уверовав в правильность своих действий (ошибки допускали те, кто не прислушивался к его мнению), стал ещё менее сговорчивым.
Сталину подумалось, что теперь успехи пойдут раз за разом, как из рога изобилия. Но такое случается у прирождённых счастливчиков, Иосиф Виссарионович к ним не принадлежал. Госпожа удача посещала его не раз за разом, а через раз, чтобы не избаловать человека, который и так с избытком любил самого себя.
Недостатком самовластного руководителя государства было нетерпение. Он был нетерпелив как в хороших делах, так и в плохих. Уверенный в правильности своих замыслов и решений, он стремился осуществлять их незамедлительно, чтобы лишний раз убедиться в своей прозорливости. Но удача, как неверная жена, изменяла ему. Добиваясь собственными усилиями нелёгких успехов в жизни, он был скуп на похвалы другим, успехам которых потворствовала судьба. Льстивость и подобострастие, с помощью которых многие устраивают свою карьеру, у горца напрочь отсутствовали. Льстивость бывает бескорыстной только у людей, уверенных в себе. Вы можете привести хоть один случай, когда Coco, Коба или Иосиф Виссарионович кому-нибудь подольстил? Я не могу. А был ли он подобострастен к кому-либо? Мозги вывернете наизнанку, но всё равно не вспомните такого случая. Уверенность в себе, доходящая до самоуверенности – вот фирменный стиль его жизни, который мог смягчаться исключительно в дипломатических ситуациях, да и то не всегда. А только тогда, когда дело касалось судьбы страны.
Январь 1942 года не предвещал Сталинграду ничего трагического. Город мирно трудился до лета на достаточно приличном расстоянии от театра военных действий, хотя воевали в нём отнюдь не бутафорским оружием. Волга была далеко от Одера и Эльбы, проявивших к ней свою воинственность. Более того, город был наполнен оптимизмом от только что завершившейся битвы за Москву. Страна радовалась, как может радоваться больной, прикованный к кровати, вернувшись из приблизившегося мира иного к новой жизни. Праздник со слезами на глазах, когда предпраздничные дни видятся сквозь туманные очертания. А настроение находится не на грани веры, родившейся из неверия и обильно сдобренной скептицизмом, который не позволял ликовать, а именно сдержанно радоваться: то, что было, забыть невозможно; то, что будет, омрачалось возможностью повторения того, что не поддаётся забвению.
Настороженность чувствовалась во всём. Даже в том, что Москва не салютовала по этому поводу. То ли потому, что приберегала порох для лучшего использования. То ли потому, что не хотела показывать миру своей преждевременной радости, как не демонстрирует её благополучный человек, уверенный в ещё больших успехах, которые не за горами и ждут своей очереди. Вот тогда-то, мол, и порадуемся, и погремим фейерверками. А пока для нас – это обычное дело.
Такая скромная радость побеждает сочувствующих победе сильнее бурных восторгов и внушает уверенность в собственных силах. Противников же озлобляет и настораживает: неужто готовится что-то ещё, более серьёзное. Сталин был силён в интуитивной психологии и знал, как отмечать любой праздник, чтобы принести радость другу и навредить врагу. А навредить врагу лучше всего, порадовавшись его неудаче, но не во всеуслышание же. Значит, надо в тишине приготовить ему очередной сюрприз. Какой, пока не знал никто.
Жизнь в настороженности и полузабытьи, когда нет полной уверенности в том, что за победой может последовать поражение, не сулит покоя. Это самое кошмарное состояние, которое я называю промеждельем. Необходимо начинать что-то делать, но есть сомнение в том, что начатое дело может в мгновенье разрушиться. Такое состояние ослабляет волю и не позволяет с полной отдачей приступить к осуществлению новых замыслов. Настроение сумеречное, не подпитываемое несомненной надеждой. Однако надо продолжать жить, если есть хоть крупица надежды. Крупица по крупице восстанавливают волю, создавая то ли предпраздничное, то ли постпраздничное настроение, когда, как говорят в народе, и хочется, и колется, и мама не велит…
В такие минуты нельзя поддаваться эйфории, чтобы, переоценив свои возможности, не натворить новых бед. Но и упиваться одной победой, пусть и окружённой многими случайностями, долго нельзя. Надо действовать решительно, то есть идти от победы к победе. Таков лозунг большевиков.
Приблизительно такое настроение царило в нашей Ставке Верховного Главнокомандования в начале 1942 года.
Сразу после того как фашисты были отброшены от Москвы, но ещё могли и вернуться, заполучив резервы (ситуация была неустойчивой), Верховный Главнокомандующий, не имея точного представления о соотношении сил, но уверенный в том, что теперь Красная Армия способна на многое, замыслил грандиозный план в следующем году выдворить немцев за пределы Советского Союза и, возможно, закончить войну.
Родной брат самоуверенности – авантюризм. До своего шестидесятилетия, которое исполнилось в год начала мировой войны, Сталин был спокойнее и расчётливее. Потом, наверное, подумал, что, пока он у власти, надо свершить всё то, что написано ему на роду. Поверить в то, что несметные гитлеровские полчища, даже при каждодневных успехах Красной Армии, просто уничтожить в течение года мог только тот, кто утратил благоразумие. Ленинград был заблокирован. Немцы ещё не собирались идти на попятную. Растеряв своё преимущество на западном фронте, они медленно, но верно, занимая город за городом в южной части России, продвигались на восток, прибирая к своим рукам всё, что не было захвачено. 25 октября после пятидневных уличных боёв был взят Харьков, а ещё через несколько дней в руки немцев перешла юго-западная часть Донбасса, открыв дорогу на Ростов. 21 ноября пал и он. Не клеилось у нас дело и в Крыму, Причерноморье, Приазовье. Немцы становились всё ближе к Кавказу, манившему Гитлера своими нефтяными запасами. Советской армии явно не хватало сил для удержания европейской части СССР. И вдруг – непродуманная сталинская идея о том, чтобы начать как можно быстрее общее наступление на всём фронте от Ладожского озера до Чёрного моря, родившаяся в самом начале 1942 года. Вот как описывает эту ошеломившую всё высшее командование ситуацию на совещании Ставки 5 января Г. К. Жуков:
«Главный удар планировалось нанести по группе армий «Центр». Её разгром предполагалось осуществить силами левого крыла Северо-Западного, Калининского и Западного фронтов (которые были измотаны подмосковными баталиями. – В. С.) путём двустороннего охвата с последующим окружением и уничтожением главных сил в районе Ржева, Вязьмы и Смоленска.
Перед войсками Ленинградского (куда Сталин после Москвы отправил известного вам Л. А. Говорова, уже в звании генерал-лейтенанта, получившего за оборону столицы два ордена Ленина. – В. С.) и Волховского фронтов, правого крыла Северо-Западного фронта и Балтийским флотом ставилась задача разгромить группу армий «Север» и ликвидировать блокаду Ленинграда (которая, как известно, завершилась в 1944 году. – В. С.).
Войска Юго-Западного и Южного фронтов должны были нанести поражение группе армий «Юг» и освободить Донбасс, а Кавказский фронт и Черноморский флот освободить Крым.
Переход в общее наступление предполагалось осуществить в крайне сжатые сроки.
По изложенному проекту И. В. Сталин предложил высказаться присутствующим.
– На западном направлении, – доложил я, – где создались более благоприятные условия и противник ещё не успел восстановить боеспособность своих частей, надо продолжать наступление. Но для успешного исхода дела необходимо пополнить войска личным составом, боевой техникой и усилить резервами, в первую очередь танковыми частями.
Что касается наступления наших войск под Ленинградом и на юго-западном направлении, то там наши войска стоят перед серьёзной обороной противника. Без наличия мощных артиллерийских средств они не смогут прорвать оборону, сами измотаются и понесут большие, ничем не оправданные потери. Я за то, чтобы усилить фронты западного направления и здесь вести более мощное наступление.
– Мы сейчас ещё не располагаем материальными возможностями, достаточными для того, чтобы обеспечить наступление всех фронтов, – заметил Н. А. Вознесенский (председатель Госплана СССР, член Государственного Комитета Обороны. – В. С.).
– Я говорил с Тимошенко, – сказал И. В. Сталин. – Он за то, чтобы наступать. Надо быстрее перемалывать немцев, чтобы они не смогли наступать весной.
И. В. Сталин спросил:
– Кто ещё хотел бы высказаться?
Ответа не последовало.
– Ну что ж, на этом, пожалуй, и закончим разговор.
Выйдя из кабинета, Б. М. Шапошников сказал:
– Вы зря спорили: этот вопрос был заранее решён Верховным.
– Тогда зачем же спрашивали моё мнение?
– Не знаю, не знаю, голубчик! – сказал Борис Михайлович и тяжело вздохнул».
Директива о наступлении была отправлена штабам 7 января. В неё были внесены дополнения по продолжению контрнаступательных действий по оттеснению немецких войск, продолжавших вести бои на территориях, близких к столице.
Если вы не обратили внимания на характер задач, которые Верховный Главнокомандующий поставил перед Красной Армией, то я подскажу. В грандиозных наступательных планах задействованы сразу 8 фронтов, не считая Балтийского и Черноморского флотов. И у каждого фронта, в свою очередь, задания многоцелевые. Будто и не было года войны, и армии вступают в запланированные сражения новёхонькими, полносоставными, не обескровленными в предшествующих боях. Благо было бы, если бы так распорядился войсками Гитлер, который любил объять необъятное. Но и Сталин на этот раз забыл, что за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. А тут уже не два, а целое заячье семейство, к тому же не менее прыткое, чем ушастики, не способные защитить себя, знающее, как дать отпор утратившему чувство меры охотнику.
Результат был легко предсказуем.
Парадоксальность директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 7 января, о чём не подумал Сталин, увлечённый грандиозностью замысла, а генштабисты не обратили на это внимания, в том, что «дополнительное задание» «нерадивому ученику», в роли которого оказались армии западного направления, превышало его возможности. Поэтому он мог надолго оказаться в «хвостистах». Так и случилось с Западным фронтом, когда началось сталинское скоропалительное шоу. Подчищать «огрехи», оставшиеся после Московского сражения, вытесняя фашистские войска в регионы, смежные со столичной областью, оказалось делом нелёгким. Гитлеровцы прочно засели в основательно оборудованных сооружениях, подготовленных советскими войсками на подступах к Москве, и за время многомесячных боёв успели создать собственные, мало в чём уступавшие советским.
Наступление, начавшееся 9 января, проходило со скрипом. Ставка настаивала на том, чтобы «попутно» или, если угодно, «параллельно», как принято говорить в нашей армии, не только «зачищала» подмосковную территорию, но и направила свои усилия – простенькое дело! – на окружение ржевско-вяземской группировки противника, которую Жуков с Коневым (уж какие, казалось бы, удалые полководцы!) не смогли выбить с «ржевского выступа» ещё в 1941 году, до наступления немцев на Москву. А почему, в своих мемуарах они умолчали. Помимо этого, Западный фронт силами 20-й армии прорывал оборону врага на реке Лама, где более тысячи лет назад наши предки перетягивали волоком свои суда на Волгу, откуда и появился Волоколамск.
Ставка торопила Конева, чтобы овладеть Ржевом до 12 января, не прекращая и других боёв, которые должны были стать завершающим этапом битвы под Москвой, официально завершённой. Ржев взять не удалось. Более того, продвинувшись на несколько десятков километров, наши войска 15 января вынуждены были перейти к обороне.
Иосиф Виссарионович продолжал верить, что выдохшиеся фашисты не способны на активное противодействие, и настойчиво требовал не прерывать наступательных операций на всех направлениях. Чтобы помочь Калининскому и Западному фронтам, он приказал командующему воздушно-десантными войсками генералу Глазунову не позднее 21 января выбросить 4-й корпус юго-западнее Вязьмы с задачей перерезать основные коммуникации противника между Вязьмой и Смоленском и не допустить его отхода на запад, то есть уничтожить.
Положение Красной Армии на Западном фронте вроде бы улучшилось, но ненадолго. Потому что почти одновременно с демонстративной помощью Сталина Калининскому фронту, которая могла восприниматься как щепотка табака солдату, не сумевшему расчётливо расходовать свои запасы курева, Верховный вывел из боя части 1-й ударной армии, которой командовал генерал В. Н. Кузнецов, передав их Северо-Западному фронту и перебросив ему 3-ю и 4-ю ударные армии с левого фланга Северо-Западного фронта. Рокировка эта была не в пользу Калининского фронта.
В двадцатых числах января положение на этом направлении осложнилось. Немцы нанесли контрудар в районе Сухиничей, куда Жуков вынужден был направить полевое управление 16-й армии Рокоссовского, потому что изъятие 1-й ударной армии почти наполовину сократило боевой состав правого крыла Западного фронта. В результате советские войска, которым было велено «окружать и уничтожать», сами оказались отрезанными от линии фронта, без продовольствия и боеприпасов. «Продовольствие искать на месте, – последовал приказ Жукова, – подавать его не будем, нет самолётов, искать снаряды также на месте». А кто их растерял?
Выручали партизаны, активизировав деятельность на коммуникациях и совершая рейды за боеприпасами на фашистские склады, но калибры советского вооружения не всегда совпадали с немецкими. Справедливости ради следует сказать, что 3-я и 4-я армии, которые были «подарены» Сталиным Калининскому фронту как слабо проявившие себя на северо-западном направлении в порядке компенсации 1-й ударной армии, проявили себя в новом подчинении с лучшей стороны. Но к середине февраля 1942 года, немногим менее двух месяцев наступательных боёв, по мнению военных историков, «войска Калининского и Западного фронтов из-за больших потерь утратили своё относительно небольшое превосходство над противником. Подавляющая часть дивизий обладала малочисленным составом, а поступавшее пополнение, плохо подготовленное, зачастую не могло использовать выданного ему оружия, не зная, как с ним обращаться. Артиллерия при остром недостатке боеприпасов резко снизила свои возможности по огневому подавлению вражеской обороны, авиация лишилась господства в воздухе, а личный состав войск… был предельно измотан. Всё свидетельствовало о том, что наступательный потенциал войск Западного направления себя исчерпал»[11].
Однако Сталин не хотел давать передышки ни гитлеровским войскам, ни своим, ещё более усложнив задачи Западного фронта. В ночь на 16 февраля он отдал приказ, по которому войскам Западного и Калининского фронтов необходимо было до 5 марта «разгромить и уничтожить ржевско-вяземско-юхновскую группировку противника», и в этот же срок аналогично поступить с «болхово-жиздринско-брянской группировкой», занять Брянск и закрепиться «на нашем старом оборонительном рубеже». Короче говоря, восстановить диспозицию до наступления немецких войск на Москву. Этим же приказом Сталин передавал в распоряжение главкома западного направления 5-й гвардейский стрелковый корпус (три дивизии), 9-ю и 214-ю воздушно-десантные бригады, 60 тысяч маршевого пополнения, 200 танков и 40 самолётов. Но одновременного наступления советских войск, как обычно, не получилось, так как вооружение поступило вовремя, а маршевое пополнение задерживалось. Бои местного значения не привели к решающему успеху. В назначенный Иосифом Виссарионовичем срок Красная Армия добилась незначительного продвижения, и 5 марта наши войска освободили город Юхнов.
Сталин с маниакальным упрямством настаивал на продолжении наступления, надеясь, по всей вероятности, доказать свою правоту и утереть теперь нос своим военачальникам, которые были не согласны с его оценкой боеспособности гитлеровских войск и в целом с его стратегической авантюрой. 20 марта он вновь потребовал разгромить уже известные вам группировки немецких войск, удлинив срок наступательной операции до 20 апреля. Чуда не произошло. Более того, к концу марта 39-я армия, которой командовал генерал-лейтенант М. Г. Ефремов, попала в окружение под Вязьмой. Немцы предъявили командующему ультиматум о сдаче армии в плен. Безвыходное положение усугубила весенняя распутица. В ночь на 14 апреля Ефремов предпринял марш на соединение с главными силами фронта, которые находились в 25 километрах от окруженцев. В голове колонны шли офицеры. Замыкали её подводы с тяжелоранеными. Арьергард составляла 113-я стрелковая дивизия. На рассвете фашисты обрушили на выходящих из окружения шквальный огонь. От обозов практически ничего не осталось. Ничтожное количество радиостанций было разбито. Связь со штабом фронта прервалась. В последующие дни немцы наращивали силу ударов. Войскам пришлось рассредоточиться и пробиваться к своим самостоятельно. В бою возле деревни Слободка Михаил Григорьевич был тяжело ранен и, чтобы не попасть в плен, 19 апреля застрелился.
Через линию фронта прорвалось немногим более тысячи человек. Часть из них влилась в партизанский отряд. Часть соединилась с остатками 4-го воздушно-десантного корпуса.
После этой трагедии Иосиф Виссарионович согласился с предложением Г. К. Жукова о прекращении наступления и переходе к обороне. Но ждал устойчивой летней погоды, чтобы продолжить осуществление своего замысла.
11
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Кн. 1. М.: Наука, 1998. С. 299.