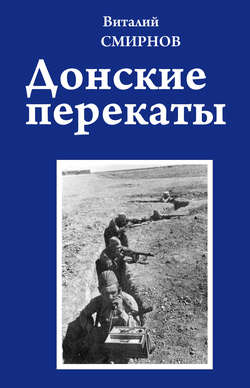Читать книгу Донские перекаты - Виталий Смирнов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава вторая. Печальные радости первого года войны
1
ОглавлениеГороду, носившему имя вождя Советского Союза, в первый год Великой Отечественной войны значительно повезло по сравнению со столицей и городами, на которые пришёлся первый внезапный удар фашистской авиации, символически обозначенными бомбардировками в качестве объектов, предназначенных для первостепенного уничтожения и завоевания, а также территориями Украины, Белоруссии и Прибалтики, ставшими советскими незадолго до гитлеровского нападения на Страну Советов. Там определился просторный коридор для вторжения незваных гостей в пределы СССР, который должен был ещё более расшириться по мере военных успехов сухопутных войск Германии, именуемых вермахтом. Фашистский план «Барбаросса», который разрабатывался не в течение одного предвоенного года, предусматривал не просто покорение славянских народов во главе с русским, а уничтожение их, начиная с Запада, чтобы потом планомерно, в течение немногих недель, дойти до Урала и восточных окраин СССР.
Барбароссовский блицкриг («молниеносная война») в первую очередь распространялся на стратегически важные территории для немцев и жизненно необходимые для Советского Союза. Сталинград тоже входил в гитлеровский перечень индустриальных центров и транспортных узлов Советов в молниеносный – дозимний – период завоевания слабого, не способного, по мнению Гитлера, дать отпор фашистским войскам противника. Но не в первую очередь опять-таки, а по мере успешного продвижения немцев к нефтяным богатствам Кавказа. Вот тогда-то и должна дойти очередь завоевания Сталинграда, который стоит на пути к этим богатствам. Каким бы путём ни добираться до них – железнодорожным ли, водным, по Волге до Астрахани, всё равно Сталинграда не миновать. А там уже до Баку недалеко и до Ирана, а при хорошем аппетите на чужие нефтяные богатства – и до Индии. Были у Гитлера и такие намерения.
Но молниеносная война, сведённая усилиями советской армии на нет, в сорок первом году до Сталинграда не дошла. Возможно, она бы не дошла до него и через год, если бы советскому командованию, и в первую очередь И. В. Сталину, не пришла в голову мысль ускорить уничтожение немцев, вторгнувшихся в пределы Советского Союза, и начать их выдворение восвояси. Война с врагом на его территории – не захватническая, но перешедшая от вынужденной обороны к наступлению – это был ответный блицкриг Советов зарвавшемуся врагу.
Так получилось, что И. В. Сталин, с целью безопасности страны отодвигая дипломатическими средствами и не гнушаясь военных границы Советского Союза по возможности на запад и северо-запад, в сторону предполагаемого противника, обезопасив ранее существовавшие, настолько приблизил новые к фашистской Германии, что Гитлеру ничего не стоило в непосредственной близости к ним, а то и на советских рубежах сосредоточить более сотни моторизованных и механизированных дивизий вермахта, оснащённых новейшим вооружением и исполнителями, ещё не забывшими фронтовой опыт Первой мировой войны, с одной стороны, и вышколенных в прусских традициях уже в эпоху Третьего рейха – с другой, прошедших школу гитлерюгенда и других организаций, в которых царили культ и мода милитаризованного убийцы, превосходящего другие расово неполноценные народы. Этому поколению, воспитанному в гитлеровскую эпоху в духе беспрекословного повиновения начальству, ничего не стоило, перешагнув в одночасье через свои и чужие рубежи, как нынче говорят, в шаговой доступности, оказаться на советской земле. Минск, подвергавшийся активным бомбардировкам, был взят, как и намечалось Гитлером, через пять дней после начала войны и форсирования танковыми армиями Клейста и Гудериана Буга. Правда, Клейст в этом соревновании на несколько часов опередил теоретика моторизованных сражений, вскоре разочаровавшего фюрера.
Труднее немцам пришлось покорять столицу Украины, на которую Гитлер имел серьезные виды. Только через три месяца после вторжения в Советский Союз, которые сопровождались жестокими боями, 19 сентября 1941 года Красная Армия ввиду грозившего окружения отвела свои войска из-под Киева, и он перешел в руки фашистов, осознавших, наконец, что молниеносная война ими безвозвратно проиграна.
Если бы фюрер, любивший артистично бахвалиться и высокомерно преувеличивать свой военно-экономический потенциал, хоть единожды побывал в первых сражениях на советской земле и воочию увидел, с какой самоотверженностью отстаивает её русский солдат даже в самых гибельных для него ситуациях, то он бы утратил свою спесь и надолго задумался о том, стоит ли свеч не один год планируемая им «игра в песочнице». Впрочем, и его выкормышам с хлестаковской беспечностью, дабы угодить своему генерал-ефрейтору, одобрявшим его авантюристические прожекты, стоило подумать о конечном их осуществлении, а не ссылаться на просчёты русских в так называемой зимней советско-финляндской войне незадолго до начала собственной, в которой, дескать, кошке отольются мышкины слёзки.
Красная Армия оказалась совершенно не готовой к ведению боевых действий в специфических условиях и продемонстрировала перед всем миром (хотя сведения о советско-финляндской войне подавались весьма скупо) свою беспомощность. Уже в начале января она вынуждена была перейти к обороне, только через месяц вернувшись к наступательным действиям. Еще через месяц противник, оказывая упорное сопротивление, начал отход. Стратегическое положение на северо-западе и севере Советский Союз улучшил, отодвинув границу от Ленинграда и Мурманска. Но цена этой безуспешной победы, завершившейся 12 марта 1940 года мирным договором, была очень высокой.
В первый же заход на Хельсинки 30 ноября 1939 года при всей слабости финской противовоздушной обороны советская бомбардировочная авиация потеряла пятую часть самолётов, участвующих в атаке. Имея ничтожное количество танков и артиллерии, финны успешно боролись с советскими броневойсками, отсекая их от пехоты и уничтожая зажигательной смесью. Большой урон Красной Армии наносили снайперы и лыжные части, в совершенстве владевшие стрелковым оружием. За месяц боевых действий потери в наших танковых частях составили около 300 машин. Оперативная группа из семи батальонов, созданная Маннергеймом, за 10 декабрьских дней уничтожила 4000 солдат и офицеров, захватив в плен 600. 60 танков и более 200 пулемётов стали её трофеями. Окружена и полностью уничтожена была 139-я дивизия РККА. В новых налётах на финские города было сбито ещё 140 бомбардировщиков. «Советский Союз, – подводит итоги «зимней войны» историк Ю. Н. Лубченков, – бросил против маленькой Финляндии 45 дивизий, более двух тысяч самолётов и трех тысяч танков – это около одного миллиона человек. Потери Красной Армии в этой войне до сих пор не известны, и данные колеблются между 70 000 и 50 000 человек. Финская армия потеряла 23 452 бойца, которые известны поимённо»[5].
Другой исторический счетовод, ссылающийся на данные 1963 года, в 1998 году сообщал, что «потери советских войск составили: убитыми и умершими от ран и болезней на этапах эвакуации и в госпиталях – 87 506, пропавшими без вести – 39 369 человек. Более 5 тысяч попали в плен. Финны потеряли убитыми около 23 тысяч, ранеными более 43 тысяч, пленными 1100 человек». Трудно сказать, какие сведения вернее. Но ни те, ни другие не могут принести нам утешения. Что потери Красной Армии были внушительными, подтверждает и главнокомандующий финской армией К. Маннергейм: «Так как русские не экономили ни на пехоте, ни на танках, масштабы их потерь были ужасающими».
Даже авантюристу меньшего масштаба, чем Гитлер, грех было бы не воспользоваться подобной ситуацией, тем более планируя внезапность нападения, преимущества которого были апробированы им в сентябре 1939 года на польской границе, когда под разными невинными предлогами к ней были стянуты кадровые части, укомплектованные по штатам военного времени. Вторжение в Польшу, ознаменовавшее начало Второй мировой войны, прошло без сучка и задоринки, с ничтожными для Германии потерями, заняв чуть более месяца.
Форсировав в течение 1939 – 1940 годов оккупацию Чехословакии, Дании, Норвегии, Бельгии, Франции, Голландии (из них, пожалуй, наибольшее сопротивление оказала лишь Норвегия, на захват Голландии ушло всего пять дней), Германия наглядно продемонстрировала, какую роль в современной войне играют оперативность, неожиданность военных действий, численное превосходство авиации, выучка десантных подразделений, и обеспечила себе тылы. Оставалось немногое: укрепить руководство вооружённых сил опытными полководцами и выработать стратегию взаимодействия всех родов войск в наступательных операциях как наиболее эффективном виде военных действий. За этим дело тоже не стало. Генштаб сухопутных войск возглавил Ф. Гальдер, не совсем лояльный к фюреру, но имевший на своём счету несколько успешно проведённых войсковых кампаний. В этом случае Гитлер отдал предпочтение профессионализму, а не личной преданности служаки своему начальнику. А стратегия военных действий вермахта совпадала с советской, но учитывала фактор внезапности, который давал преимущество германской армии. Красная Армия должна была вести оборонительные бои, тактика которых в вооружённых силах Советского Союза практически не была разработана.
Гитлер, получив от Рудольфа Гесса, своего заместителя по национал-социалистической партии и эмиссара в Лондоне, которому было поручено досконально разнюхать военно-политическую ситуацию в Англии, сразу после его заверения в том, что Великобритания не будет принимать участия в советско-германской войне, тут же изменил планы на её начало, которое сдвинулось ко всем известному сроку, чем нарушил планомерную подготовку СССР к вооружённому отпору врагу, превратив её в событие, не терпящее отлагательств. Есть разница между размеренным ходом событий и экстремальной ситуацией? Разумеется, есть. Да ещё какая!
5
Лубченков Ю. Н. Сто великих сражений Второй мировой. М.: Вече, 2010. С. 88.