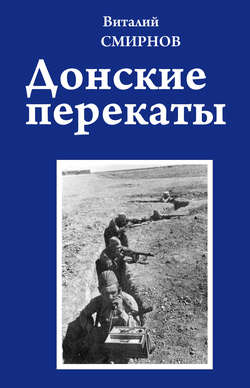Читать книгу Донские перекаты - Виталий Смирнов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава вторая. Печальные радости первого года войны
3
ОглавлениеКонец июня 1941 года по вполне понятным причинам был неизмеримо трудным для всех советских фронтов, но особенно для Юго-Западного, на который пришёлся главный фашистский удар, и Северо-Западного. Но в июле, констатировал в мемуарах Г. К. Жуков, «обстановка на всех направлениях стала ещё сложнее. Несмотря на ввод в сражения большого количества соединений, прибывших из внутренних округов, нам не удалось создать устойчивый фронт стратегической обороны. Противник, хотя и нёс большие потери, по-прежнему на решающих направлениях имел трёх-четырёхкратное превосходство, не говоря уже о танках.
Железнодорожные перевозки наших войск по ряду причин (воинскими эшелонами были забиты все пути. – В. С.) осуществлялись с перебоями. Прибывающие войска зачастую вводились в дело без полного сосредоточения, что отрицательно сказывалось на политико-моральном состоянии частей и их боевой устойчивости».
Лукавил маршал, не признавая собственной вины. Он объяснял слабость нашей оперативно-тактической обороны отсутствием сил и средств для её глубокого эшелонирования. Дело не в этом, а в том, что в укрепрайонах она была заблаговременно создана, но потом, в надежде на наш наступательный успех на чужой территории, во многих местах по разным причинам уничтожена. Зачастую для расширения пространства готовящихся к наступлению армий. Такая ситуация, в частности, сложилась в районе Смоленска, где фашисты планировали окружить основную группу войск и открыть путь на Москву. Сражение за Смоленск длилось два месяца. 5-й и 6-й корпуса немцев пошли в обход города с северо-запада и прорвались к Могилёву. Оборонявшая его 13-я армия и наступление 21-й армии под Бобруйском затормозили продвижение фашистских войск на рославльском направлении, но сдержать напор не смогли. Смоленск был сдан. В сражении за него гитлеровцы потеряли 250 тысяч солдат и офицеров. Под столицей Белоруссии Красная Армия впервые применила реактивные миномёты «катюша». Здесь родилась советская гвардия.
Измотанные ожесточёнными боями противоборствующие стороны снизили накал страстей, приводя войска в порядок перед грядущими сражениями. Но бои в районе Ельни, где немцы захватили плацдарм, с которого было удобно наступать на Москву, продолжались, как и на других направлениях советско-германского фронта. Неизменный успех сопутствовал гитлеровским войскам в молодых советских Прибалтийских республиках, созданных в предвоенные годы. За три первые недели боёв войска Северо-Западного фронта отступили в глубину советской территории до 450 километров, оставив почти всю Прибалтику. Фронт потерял свыше 90 тысяч человек, более тысячи танков и самолётов, 4 тысячи орудий и миномётов. По причине небоеспособности частей командованию 24-го стрелкового корпуса пришлось уже 7 июля убрать всех без исключения эстонцев, почти 1,5 тысячи солдат, главным образом латышской национальности.
Не утихали на Украине ожесточённые бои оборонительного характера, которые вели войска юго-западного направления. Со стратегической точки зрения завоевание Украины важно было немцам не только для пополнения своей ресурсной базы, но и для поддержки с юга центральной группировки вермахта, перед которой по-прежнему стояла главная задача овладеть Москвой, а не ввязываться в затяжные бои, которые навязывают Советы. А значит, хоть блицкриг уже не состоялся, надо ускорять завоевание этого строптивого народа. Не сумев пробиться к Киеву с севера, часть сил немцы направили на юг, в тыл 6-й, 120-й и 18-й советских армий, которые в результате этого манёвра попали в окружение. Командующие этих армий (за исключением последней) были пленены.
Для совершенствования работы армейского руководства 10 июля Государственный Комитет Обороны преобразовал Ставку Главнокомандования в Ставку Верховного Главнокомандования, в состав которой вошли Сталин, Молотов, Тимошенко, Будённый, Ворошилов, Шапошников, Жуков. Так что с этого момента все претензии по поводу стратегических просчётов Красной Армии вы можете относить на их счёт. А некоторые – персонально на счёт Сталина, который 19 июля был назначен народным комиссаром обороны, а с 8 августа стал Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР и мог принимать самостоятельные решения, чего ему не хватало для того, чтобы проявить свой полководческий талант, в котором он не сомневался, игнорируя иногда рекомендации своих генштабовских стратегов. «Мы сами с усами», – коротко осаживал он их в этих случаях. А свои эмоции по этому поводу они чаще всего выражали в послевоенных мемуарах.
Юго-Западный фронт, которым командовал генерал М. П. Кирпонос, был одной из наиболее сильных войсковых группировок, сосредоточенных Советским Союзом на западных границах. В случае нападения Германии на этом направлении ему отводилась главная роль в разгроме вермахта. Группа немецких армий «Юг», которой командовал фельдмаршал Рунштедт, в отличие от «Центра», начавшего наступление в Белоруссии, играла вторую роль. Она должна была выполнять оборонительные задачи, если внезапное нападение вермахта будет отбито Красной Армией и немецкие войска будут вынуждены отступать. Тем не менее её второстепенность тоже имела серьёзное значение. Войска Рундштедта имели приказ уничтожить отступающие советские части на Правобережной Украине, не допустив их отхода за Днепр. Юго-Западный фронт имел достаточно сил, чтобы противостоять немецкому фельдмаршалу. Но он не сумел оказать должного сопротивления опытному германскому военачальнику, который нанёс удар севернее Львова превосходящими силами. Шесть стрелковых советских дивизий и одна кавалерийская упорно сопротивлялись 17 пехотным и двум танковым дивизиям противника. 24 июня ему удалось окружить две наши дивизии. В обороне образовалась 79-километровая брешь, через которую немецкие танки устремились на Луцк, а потом на Перемышль и далее. 30 июня советские войска оставили Львов, получив в этот же день приказ сосредоточиться к 9 июля в Коростенском, Новоград-Волынском и Летичевском укреплённых районах для «упорной обороны». За восемь суток надо было отойти на 200 километров в глубь территорий, разумеется, не без боёв. Немецкие танки достигли указанных пунктов раньше отступавших советских частей. Короче говоря, Львовско-Черновицкая стратегическая оборонительная операция, как впоследствии стали называть эти бои на Западной Украине, закончилась поражением Красной Армии. Гитлеровцы начали готовиться к взятию Киева, одновременно разрабатывая операцию по окружению советских войск на этом направлении.
«Одна из причин трагического исхода начального периода войны, – считают современные историки, – это грубейший просчёт политического и военного руководства Советского Союза в отношении сроков агрессии, которая оказалась для Красной Армии внезапной. В результате войска первого оперативного эшелона попали в исключительно тяжёлое положение. Противник громил советские войска по частям: сначала расположенные вдоль границы и не приведённые в боевую готовность соединения первого эшелона армий прикрытия, затем встречными ударами – их вторые эшелоны, а после, развивая наступление, он упреждал советские войска в занятии выгодных рубежей в глубине, с ходу овладевая ими. В итоге советские войска оказывались расчленёнными и попадали в окружение.
Попытки советского командования нанести ответные удары, предпринятые им на второй день войны, уже не соответствовали возможностям войск и по сути явились одной из причин неудачного исхода пограничных сражений. Запоздалым оказалось и решение о переходе к стратегической обороне, предпринятое лишь на восьмой день войны. К тому же этот переход происходил слишком нерешительно и разновременно. Он потребовал переноса основных усилий с юго-западного направления на западное, где противник наносил свой главный удар. В результате значительная часть советских войск не столько сражалась, сколько перемещалась с одного направления на другое. Это давало возможность противнику громить соединения и даже объединения по частям, по мере их подхода к району сосредоточения»[8].
В самом конце июля, оценив сложившуюся обстановку на всех направлениях и сделав для себя прогноз дальнейшего развития фронтовых событий, который для Красной Армии в ближайшее время не сулил ничего утешительного: силы разбросаны на огромных расстояниях и в случае намечавшегося поражения на одном участке фронта ему трудно будет оказать оперативную помощь, передислоцировав войска с другого участка, переполненный вариантами решений и сомнений Г. К. Жуков напросился по телефону на встречу со Сталиным. Тот не возражал.
В сталинском кабинете, помимо его хозяина, присутствовал Л. 3. Мехлис, Начальник Главного политического управления Красной Армии и, на мой взгляд, «по совместительству» один из главных осведомителей вождя по всякого рода склочным делам, в которых он любил копаться.
Жуков не терпел этого слизняка, но откровенного презрения не выказывал. Увидев Мехлиса, Жуков потерял всякое желание рассказывать о своих планах и сомнениях, потому что этот главначпуровец обязательно сунется со своими замечаниями и поправками «с точки зрения политического работника», как он любил предварять свои выступления. И в редких случаях эта точка зрения совпадала со здравым смыслом.
– Ну, докладывайте, что у вас, – сказал Иосиф Виссарионович.
Разложив на столе карты и документы, подтверждающие те факты, о которых он собирался доложить, Жуков одёрнул китель, показал расположение войск противника и наших и начал высказывать свои предположения о стратегических действиях германских войск. Сталин, подымливая трубкой, внимательно разглядывал карты и всякие пометки. Когда речь зашла о немецких планах, Мехлис тут же всунулся с вопросом:
А откуда вам известно, как будут действовать немецкие войска?
Я бы на месте Жукова отшил любознательного комиссара репликой:
«Из конфиденциального разговора с Адольфом Алоизовичем…»
Жуков же невозмутимо ответил:
– Мне неизвестны планы, по которым будут действовать немецкие войска, но, исходя из анализа обстановки, они могут действовать именно так, а не иначе. Наши предположения основаны на анализе состояния и дислокации немецких войск и прежде всего бронетанковых механизированных групп, являющихся ведущими в их стратегических операциях.
– Продолжайте докладывать, – сказал Сталин, не любивший, когда его перебивают, и не поощрявший тех, кто мешает говорить другим.
Зыркнув неприязненно на Мехлиса, начальник Генерального штаба продолжил:
– На московском стратегическом направлении немцы в ближайшие дни не смогут вести наступательную операцию, так как они понесли слишком большие потери. У них нет здесь крупных стратегических резервов для обеспечения правого и левого крыла группы армий «Центр». На ленинградском направлении без дополнительных сил немцы не смогут начать операции по захвату Ленинграда и соединению с финнами. На Украине главные сражения могут разыграться где-то в районе Днепропетровска, Кременчуга, куда вышла главная группировка бронетанковых войск противника группы армий «Юг». Наиболее слабым и опасным участком наших фронтов является Центральный фронт. Армии, прикрывающие направления на Унечу, Гомель, очень малочисленны и технически слабы. Немцы могут воспользоваться этим слабым местом и ударить во фланг и тыл войскам Юго-Западного фронта.
– Что вы предлагаете? – помедлив, спросил Сталин, внимательно слушавший Жукова.
– Прежде всего, укрепить Центральный фронт, передав ему не менее трёх армий, усиленных артиллерией. Одну армию за счёт западного направления (всё равно война там уже была проиграна. – В. С.), другую за счёт Юго-Западного фронта, третью из резерва Ставки. Поставить во главе фронта опытного и энергичного главнокомандующего. Конкретно предлагаю Ватутина.
– Вы что же, считаете возможным ослабить направление на Москву? – с трудно скрываемым недовольством спросил Иосиф Виссарионович.
– Нет, не считаю. Через 12-15 дней мы можем перебросить с Дальнего Востока не менее восьми вполне боеспособных дивизий, в том числе одну танковую. Такая группа войск не ослабит, а усилит московское направление.
– А Дальний Восток отдадим японцам? – вновь перебил Жукова язвительным вопросом политстратег.
Жуков промолчал, не шевельнув бровью, потом досказал мысль, в которой сам не был уверен до конца:
– Юго-Западный фронт необходимо целиком отвести за Днепр…
Это означало, что его песенка спета и может быть продолжена не сейчас, а в другое время, когда решится вопрос с Москвой и Ленинградом, которые, считал Жуков, сдавать врагу ни в коем случае нельзя.
– За стыком Центрального и Юго-Западного фронтов, – чуть помедлив, продолжил начальник Генштаба, – надо сосредоточить не менее пяти усиленных дивизий.
– А как же Киев? – спросил Сталин, цепко глядя в глаза Жукову, ошеломлённый последним предложением.
– Киев придётся оставить, – невозмутимо произнёс Георгий Константинович, хотя знал, что может последовать за этим. – На западном направлении нужно немедля организовать контрудар с целью ликвидации ельнинского выступа. Этот плацдарм противник может использовать для удара на Москву.
– Какие там ещё контрудары, что за чепуха? – взорвался Сталин. – Как вы могли додуматься отдать врагу Киев?
Сталин не допускал мысли, что кто-то может быть умнее него, хотя не демонстрировал этого. Он умел сдерживать свои эмоции. Но в минуты гнева, как в этот раз, у него это иногда прорывалось. Тут уже не сдержался и Жуков:
– Если вы считаете, что начальник Генерального штаба способен только чепуху молоть, тогда ему здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанностей начальника Генерального штаба и послать на фронт. Там я, видимо, принесу больше пользы Родине.
– Вы не горячитесь, – заговорил Сталин, в первую минуту решивший пойти на мировую, но тут же передумал. – А впрочем, если вы так ставите вопрос, мы без вас можем обойтись…
Мехлис в знак одобрения сталинского решения подскочил на своём стуле, намереваясь изобразить аплодисменты, но Сталин укротил его своим взглядом.
Жуков, как бы подводя итог своему докладу, добавил:
– Я выражаю здесь не только свою точку зрения, но и Генерального штаба.
– Идите работайте, – сухо проронил Иосиф Виссарионович, – мы тут посоветуемся и тогда позовём.
Собрав карты и документацию, Жуков твёрдым шагом вышел в сталинскую приёмную, где сидел Поскребышев.
– Все проблемы решены? – чтобы не молчать, спросил тот посмурневшего Жукова.
– Все проблемы может решить только война, – сурово сказал бывший начальник Генерального штаба. – Ожидаю нового назначения.
Минут через сорок в приёмной раздался телефонный звонок. Поскребышев поднял трубку, потом обратился к Жукову:
– Георгий Константинович, Иосиф Виссарионович приглашает вас…
С кем советовался Сталин, неизвестно. Но с места в карьер он сказал:
– Мы посоветовались (с кем, не знаю, но не с Мехлисом же. – В. С.) и решили освободить вас от обязанностей начальника Генерального штаба. Она вам, видимо, не по силам. Начальником Генерального штаба назначим Шапошникова. Правда, у него со здоровьем не всё в порядке. Но ничего, мы ему поможем.
– Куда прикажете мне отправиться? Могу выполнять любую работу. Могу командовать дивизией, корпусом, армией, фронтом.
– Не горячитесь, не горячитесь! Вы вот говорили об организации контрудара под Ельней. Ну и возьмитесь за это дело. Мы назначим вас командующим Резервным фронтом. Когда вы можете выехать?
– Через час.
– В Генштаб скоро прибудет Шапошников, сдайте ему дела и выезжайте. Имейте в виду, вы остаётесь членом Ставки Верховного Главнокомандования…
– Разрешите отбыть? – Георгий Константинович вытянулся в струнку, как надлежало подчинённому командиру.
– Садитесь и выпейте с нами чаю, – сменив гнев на милость, сказал, улыбаясь, Сталин. – Мы ещё кое о чём поговорим.
Жукову захотелось без промедления уйти. У него не было никакого желания продолжать разговор. Но сталинское приглашение – это приказ.
Сели за стол, однако разговор не клеился. Чтобы не пренебречь гостеприимством кавказского человека, что у горцев воспринимается как серьёзное оскорбление, Жуков не без удовольствия выпил чашку чая (вроде не волновался, но во рту пересохло) и перекинулся с Верховным несколькими фразами. Тот понял, что командующему Резервным фронтом не до разговоров, и не стал его задерживать. Жуков пожал Сталину руку и, щёлкнув каблуками, вышел. Напутственных слов Иосиф Виссарионович не произнёс. Передав в приёмной дела Шапошникову, Жуков в этот же день выехал в район Гжатска, где находился штаб незадолго до этого созданного Резервного фронта.
Причину и повод смещения Жукова никто, кроме, пожалуй, Мехлиса, не знал. Толковали по-разному. Одни видели повод для опалы начальника Генштаба в неудовлетворённости Сталина оборонительными операциями советских войск на западном и юго-западном направлениях. Другие, поразумнее, считали, что после завоевания немцами западных территорий эпицентр рукотворного катаклизма сместится, как и предполагал Жуков, в центральную часть России для захвата русских столиц – Ленинграда и Москвы, поскольку шёл второй месяц войны, а гитлеровское задание было ещё далеко от выполнения. Кто так думал, был ближе к истине, рассматривая новую фронтовую должность Жукова как очередное спецзадание Сталина, если выразиться современным слогом, кризисному менеджеру. Никто, конечно, не догадывался, что в Ельню Жуков напросился сам, исходя из стратегических интересов страны. Жаль, что таких «добровольцев», которые рвались в самые напряжённые точки советско-германских сражений, среди крупных военачальников было мало. Это вполне объяснимо.
Чтобы быть успешным стратегом, надо выработать в себе чувство самоограничения и с методической последовательностью подчиняться ему, соизмеряя свои силы со своими возможностями и не распыляя себя на тысячу параллельно выполняемых дел (что было девизом советской армии), потому что половина из них обязательно окажется неосуществленной. Мера и вера в успех ходят рядом. Если одно дело доведено до конца, рождается вера в то, что и следующее дело закончится успешно. Гитлер и Сталин – в силу своей эксцентричности и неумения умерять желания (у них было достаточно много общих психологических черт) – хотели, чтобы всё делалось сразу и одновременно. Поэтому первый, назовём его «одноразовый многоцелевик», потерпел во Второй мировой войне поражение. У второго, казалось бы, был ограничитель – Ставка Верховного Главнокомандования, которая должна была бы по замыслу вырабатывать коллективные решения. Но редко кто осмеливался перечить вождю, за исключением Жукова и Василевского, который был заместителем начальника Генерального штаба. А Жуков впоследствии стал заместителем Верховного Главнокомандующего. И в роли ограничителя сталинских стратегических замыслов чаще всего (к неудовольствию вождя) выступал Жуков. Он никогда не гонялся сразу за двумя зайцами, прекрасно зная, что из этого получается. Когда же Верховный единовластно определял стратегические планы, чаще всего возникали непредвиденные ситуации, которые влекли за собой, мягко говоря, неблагополучный исход, о чём речь впереди.
Окажись Жуков в ситуации с Киевом более податливым, не могу сказать, чем бы закончились битвы за Москву и Ленинград. Отказавшись от идеи во что бы то ни стало отстоять украинскую столицу именно в той ситуации, которая не сулила успеха, Жуков не сдал Ленинград и сохранил Москву. Спасибо за это товарищу Сталину!
8
Великая Отечественная война 1944-1945 гг. Кн. 1. М.: Наука, 1998. С. 165–166.