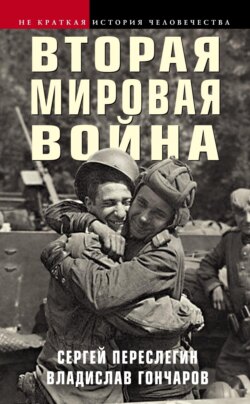Читать книгу Вторая мировая война - Владислав Гончаров - Страница 10
Часть первая. Европейский пролог
Сюжет второй: от Версаля до Глейвица
Измор и сокрушение
ОглавлениеНадо сказать, что над проблемой быстрой войны задумывались и в других странах. Опыт Первой мировой, пусть и в разной степени, оказался печален для всех ее участников, поэтому во всех странах теоретики начали размышлять о том, как минимизировать расходы и потери, а главное – социальный эффект от последних. На некоторое время стала популярна идея малочисленных профессиональных армий. Однако всем было ясно, что если противник на нее не пойдет, а выставит на поле массовое, пусть в среднем гораздо хуже оснащенное и обученное войско, справиться с ним не удастся. И тогда в самом лучшем случае придется вновь прибегать к всеобщей мобилизации, а в худшем – подписывать капитуляцию.
Впрочем, для большинства великих держав подобные рассуждения были простым теоретизированием – Британия, США и Япония, получившие от Великой войны максимум для них возможного и защищенные морем от нападения противника, готовились к грядущему противостоянию в океанах, не особо заботясь о будущем сухопутной войны. Франция, победившая, но морально подавленная колоссальными потерями, ушла в глухую оборону, надеясь отсидеться за линией Мажино. Итальянцы могли сколь угодно теоретизировать о воздушной мощи, а поляки – мечтать о Речи Посполитой от можа до можа, но все эти построения являлись лишь абстракциями, которые их авторы были бессильны осуществить.
Но оставался еще Советский Союз. В 1920-х годах в советской военной теории шла ожесточенная борьба между двумя стратегическими концепциями будущей войны: «стратегией сокрушения» и «стратегией измора». Сторонником первой был начальник Штаба РККА, впоследствии заместитель наркома обороны М. Н. Тухачевский, сторонником второй – начальник кафедры военного искусства академии имени Фрунзе бывший генерал-майор А. А. Свечин, по характеристике комиссара этой академии Р. Муклевича – «самый выдающийся профессор академии».
Тухачевский, развивая теорию революционной войны и завороженный германской военной мыслью, заявлял, что будущую войну следует вести наступательно, с задачей быстрого разгрома противника и с расчетом на восстания в его тылу. Естественно, для решительного успеха в наступлении требовалось использовать все новшества военной техники – авиацию, танки, автотранспорт, а также более экзотические боевые средства, в итоге так и не вышедшие из стадии разработок.
В противовес ему Свечин, ориентируясь на печальный опыт Первой мировой и Русско-японской войн, доказывал, что для России с ее обширными территориями, плохими коммуникациями и богатыми, но трудно собираемыми людскими и природными ресурсами выгоднее всего будет война на истощение, где новые боевые средства, при всем их значении, не сыграют решающей роли. Как он сам писал в автобиографии 1937 года:
«В своем труде „Стратегия“ я резко высказывался против бонапартистских тенденций в военном искусстве, высказывался против увлечений, которые предполагали, что новая военная техника сводит к нулю оборону и благоприятствует молниеносному наступлению (что теперь является признанным даже в Германии), и очень неуважительно отзывался о стратегическом понимании Людендорфа и германской школы…
М. Н. Тухачевский, которого я неоднократно изобличал на диспутах (1927 г.), в литературе, на лекциях и в совещаниях, выступил с обвинением старых специалистов в реакционности и в том, что они являются проводниками пораженческого движения и буржуазной агентурой в Красной армии».[19]
В 1931 году Свечин был арестован по делу «Весна». Вряд ли он имел какое-то касательство к заговору – даже если тот был чем-то большим, нежели салонная болтовня старорежимных военспецов. В том же году М. Н. Тухачевский становится заместителем наркома военно-морских сил, председателем Реввоенсовета и начальником вооружений РККА. Казалось бы, победа в споре определена. Но ровно через год Свечина освобождают из заключения, и он получает назначение в Разведывательное управление Штаба РККА. Осенью 1936 года он получает воинское звание комбрига, всего через два месяца становится комдивом, а вскоре опять оказывается профессором вновь воссозданной академии Генерального штаба.
Тухачевский был арестован в мае 1937 года, Свечин – в декабре, пережив своего оппонента всего лишь на год. Кто из них выиграл спор? На первый взгляд, победителем стал Тухачевский – формально советская военная теория продолжала основываться на «стратегии сокрушения», требовавшей развития воздушных и механизированных сил. Страна пела о победе «малой кровью, могучим ударом». Однако политическое руководство рассматривало ситуацию совсем по-другому – именно во второй половине 30-х был сделан упор на создание промышленной базы глубоко в тыловых районах страны, развернулось усиленное строительство заводов-«дублеров» на Урале и в Сибири. Именно на эти площадки летом и осень 1941 года были эвакуированы промышленные мощности с запада страны, что позволило не только не снизить военное производство, но даже увеличить его в рекордно короткий срок, – ведь оставшиеся в Москве и Ленинграде части предприятий продолжали выпуск продукции.
«Стратегия измора немыслима, когда содержание миллионов солдат требует миллиардных расходов», – писал фон Шлиффен в своих «Каннах». Но вот стратегия измора встала против стратегии сокрушения – и выиграла.
Когда советские историки писали о «провале блицкрига», они имели в виду именно стратегический итог кампании 1941 года, а вовсе не утрату вермахтом способности проводить широкомасштабные маневренные операции. В этом смысле поворотным пунктом Второй мировой войны стал не Мидуэй, не Эль-Аламейн и не Сталинград. Им стало 6 декабря 1941 года – дата начала советского контрнаступления под Москвой. С этого момента и для советского руководства, и для германского командования итог войны был предопределен, оставался лишь вопрос: когда и какой ценой?
19
Александр Свечин. Эволюция военного искусства. М.: Академический проект; Жуковский: Кучково поле, 2002. С. 16-17.