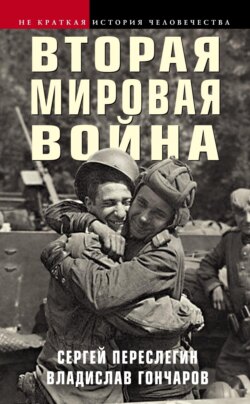Читать книгу Вторая мировая война - Владислав Гончаров - Страница 16
Часть первая. Европейский пролог
Сюжет второй: от Версаля до Глейвица
«Никогда не сдавайся!»
ОглавлениеТребования, сформулированные еще Сектом в наставлении 1921-1923 годов «Управление и взаимодействие родов войск в бою», подразумевали необходимость для офицера (а также солдата и унтер-офицера) обладать не просто рядом определенных знаний, а также неким набором привычек и навыков. Эти привычки и навыки можно было отработать только на практике, механическое заучивание уставов и наставлений (не говоря уже о теоретических работах) здесь не помогало.
Точно так же боевая реальность вносила коррективы в уже набранный на учениях опыт. И если мы еще можем проследить изменения организационной структуры под влиянием опыта боевых действий, то изменение личного (в том числе и плохо вербализуемого) опыта солдат и офицеров отследить крайне трудно. Можно лишь констатировать, что тактика блицкрига была гибкой и постоянно менялась как под воздействием полученного опыта, так и под влиянием обстановки.
Увы, чтобы руководство Красной армии до конца осознало ограниченность возможностей танков и определило оптимальный баланс пехоты, транспорта, артиллерии и бронированных машин, также требовался боевой опыт. Причем приобретенный не в специфических условиях Испанской войны, конфликта на Халхин-Голе или боев по прорыву линии Маннергейма, а в обстановке классических маневренных действий.
Соответственно полученному опыту менялась и структура танковых войск. Это происходило как в вермахте, так и в Красной армии. И в обоих случаях изменения были однонаправленными – уменьшалось количество танков, увеличивалась относительная численность артиллерии, транспорта и возимой пехоты. Очень часто встречается мнение о том, что недостаток танков в немецких танковых дивизиях сильно снижал их боевые качества. Однако в моторизованных дивизиях у немцев танков вовсе не имелось, но почему-то никто не воспринимает их как «неполноценные». Наличие или отсутствие танков значительно влияло лишь на возможность выполнения наступательных задач, причем в достаточно узком диапазоне условий. К примеру, как уже указывалось выше, для прорыва хорошо организованной обороны в первом периоде войны немцы свои танки старались не применять. В позиционной обороне танки также играют минимальную роль – для нее гораздо важнее общая численность войск, артиллерийская поддержка и масштабы подвоза боеприпасов. Последний критерий, кстати, является универсальным – наличие еды, патронов и снарядов гораздо важнее числа солдат, пушек и танков.
Иногда приходится слышать, что главным условием успешного блицкрига была хорошая связь и что именно поэтому возможность вести молниеносную войну «по немецкому образцу» – по крайней мере в первый период Второй мировой – имели только сами немцы.
Заметим, что этот тезис сам по себе уже противоречит легенде о «бедности» вермахта, которая якобы помешала оснастить его тем или иным видом оружия или снаряжения. Но, как мы уже отмечали выше, никогда не бывало, чтобы какая-то техническая или теоретическая новинка могла бы сама по себе переломить ход войны.
Любая попытка сделать ставку на «чудо-оружие» в ущерб остальным видам вооружений либо боевой подготовке неизбежно приводила к провалу. Исход противостояния всегда определялся общим техническим уровнем вооружения и оснащения, а также ресурсами сторон. В случае же их примерного равенства на первый план выходили подготовка войск и военное искусство противников.
Точно так же и исход каждой отдельной операции определялся комплексом факторов, из которых наиболее значимыми являются общая численность войск, их техническое оснащение и система управления. Даже связь является лишь одним из элементов системы управления войсками, весьма важным, но мало что решающим вне комплекса остальных. И что с того, что штаб 6-й немецкой армии получил известие о начале советского наступления под Сталинградом уже через полчаса, если начиная с 20 ноября 1942 года немцы не имели информации о состоянии своих коммуникаций!
Немецкое командование могло получать полную информацию о положении на участке прорыва – но в течение некоторого времени оно не знало и не могло знать, что творится в его собственном тылу, как далеко продвинулись прорвавшиеся советские войска, куда они направляются и какова их численность. И все это время наступающие части Красной армии могли действовать по первоначальному плану, не скованные необходимостью реагировать на непредусмотренные действия противника. Таким образом, связь отходила на второй план, заменяясь «домашними заготовками», помноженными на инициативу.
Да, в основу теории (точнее, практики) блицкрига было положено именно умение воспользоваться одним из факторов – тем, в котором атакующий имел преимущество над противником. Немцы верили в свое умение управлять войсками и сделали ставку именно на него – в сочетании с огромной подвижностью, позволявшей реализовать преимущество в управляемости в наиболее короткий срок. По умолчанию предполагалось, что противник, не успев реализовать свои возможности и преимущества, будет морально подавлен первыми поражениями и не просто утратит инициативу, но и лишится самой воли к победе.
Эти предположения блестяще оправдались во время Французской кампании – хотя многие немецкие генералы считали французов крайне опасным противником. Они опасались, что быстрого успеха против французской армии достичь будет крайне сложно – тем более что вермахт не имел преимущества ни в численности войск, ни в количестве танков и автотранспорта, ни в численности и качестве авиации. Вдобавок французские танки заметно превосходили немецкие по качеству защиты, а зачастую – и по мощности пушек.
Встречный бой 16-го немецкого танкового корпуса с 3-й и 4-й французскими легкими механизированными дивизиями под Анну 13 мая 1940 года принес немцам огромные потери. Некоторые историки даже уверяют, что французы выиграли его «по очкам», забывая, что в итоге поле боя все же осталось за немцами. Более того, на этом поле (и в брошенных ремонтных базах) немцами было захвачено множество французских танков, числившихся не потерянными в бою, а лишь поврежденными.[29]
Но самое важное: ситуации на главном направлении – южнее Седана – этот бой никак не изменил. Зато он научил немецких генералов в дальнейшем избегать столкновений танков с танками, памятуя о том, что немецкие танковые войска предназначены (и оптимизированы!) совсем для другого. К сожалению, этого до сих пор не понимает большинство военных историков, упорно сравнивающих количество танков, калибр их пушек и толщину брони… Ну а эффективное использование немцами зенитных орудий в качестве мобильного противотанкового резерва при отражении английского контрудара под Аррасом заставило союзников отказаться от попыток перехватить инициативу даже там, где у них – как выяснилось потом – были вполне реальные шансы на успех.
В ходе Французской кампании «туман войны» одинаково окутывал обе стороны. Но активными действиями немцы сумели не только перехватить инициативу – они смогли убедить противника в своем преимуществе даже там, где соотношение реальной численности и качества противостоящих сил такого преимущества не обеспечивало. Таким образом, главной целью блицкрига стал не собственно разгром противника, а создание у него впечатления, что любая инициатива заранее обречена на неудачу – то есть надо либо уходить в глухую оборону, либо сдаваться.
Что можно было противопоставить этой тактике? По сути, лишь одно – «никогда не сдаваться!», как гласит подпись к известной карикатуре с цаплей, проглотившей лягушку. Жертве блицкрига следует не просто продолжать сопротивление, но сопротивляться активно, сковывая инициативу противника и заставляя его отвлекать внимание и силы от тех мест, где он имел наибольшее позиционное и ситуативное преимущество. Конечно, если не учитывать заявления демагогов о том, что чрезмерно высоким потерям следует предпочесть сдачу в плен – а затем «пить баварское»… Правда, французы предпочли сдаться, а потом все равно оказались в числе победителей («Как, и они здесь?» – воскликнул Кейтель на подписании капитуляции). Но вывела их в победители отнюдь не судьба, а отчаянное сопротивление тех, кто предпочел глупую, бессмысленную и неэффективную борьбу разумной и осмысленной трусости…
Увы, тактика активного сопротивления повсюду при невозможности добиться решающего успеха хоть в каком-то месте, неизбежно выливается в многочисленные, часто разрозненные контратаки, зачастую проводимые без решающего превосходства в силах или против уже укрепленной противником позиции. Такие действия ведут к значительным потерям, кажущимся совершенно неоправданными. Действительно, если для успешного прорыва вражеской обороны требуется трехкратное превосходство – чему учат студентов на любой военной кафедре, – то не лучше ли вместо бесплодных и дорогостоящих атак уйти в глухую оборону, заставив противника нести аналогичные потери в атаке наших позиций?
Здесь мы сталкиваемся с еще одним парадоксом блицкрига, ускользающим от понимания многих исследователей. Оборона всегда подразумевает передачу права хода противнику – то есть утрату инициативы. Таким образом, противник получает дополнительное преимущество, причем отнюдь не абстрактное, а самое что ни на есть практическое. Не скованный необходимостью реагировать на наши действия, он может без помех сосредоточить максимум усилий на выбранном им направлении главного удара. После чего, даже при отсутствии общего превосходства в силах и средствах, враг без проблем совершает прорыв в нужном ему месте. В итоге наши войска, старательно избегавшие неоправданных потерь и не атаковавшие без надежды на успех, несут еще более высокие потери при поспешном отходе либо же оказываются в окружении. Те самые войска, которые мы так жалели и тщательно сберегали, избегая бесплодных контратак…
Да, тактика активного сопротивления опытному, а вдобавок численно и технически превосходящему противнику неизбежно влечет огромные потери, но эти потери все равно будут меньше, нежели при полном разгроме, который так же неизбежно последует, если отдать врагу право первого хода.
Беда в том, что в последние два-три десятка лет в общественное сознание усиленно внедряется мысль о том, что человек несет ответственность лишь за последствия своих действий – но не за бездействие. Тем более что в информационном мире представление о вещи и ее образ в сознании человека значат неизмеримо больше, нежели сама эта вещь или событие. В этом мире не составляет большого труда (хотя почитается за важное умение) найти тысячу причин, по которым действие не могло быть совершено, – даже в тех случаях, когда за бездействие предусмотрена уголовная или служебная ответственность.
При этот как-то само собой подразумевается, что мирозданием управляют некие мудрые законы[30], которые в отсутствие противодействия им сами обеспечат оптимальное развитие событий. Любая попытка противодействия этим законам мироздания скорее приведет к ухудшению ситуации, нежели к ее улучшению. Оправданием для активных действий может восприниматься стремление к личному успеху на локальном уровне – но никак не сверхличностная цель. И тем более не «счастье всего человечества». «Дон-Кихот благороден – но все же смертельно опасен» (Александр Городницкий).
В итоге оказывается, что человек, не исполнивший своего долга, но добившийся личного успеха (хотя бы на страницах своих мемуаров), воспринимается как победитель и образец для подражания – даже если его сторона потерпела поражение. Общее поражение отделяется от личного успеха, причинно-следственная связь между ним и невыполнением долга рвется, объявляясь недоказуемой. Логика при этом обычно оказывается крайне проста:
1. Если высший командир потерпел неудачу, то его приказы были неверны и глупы.
2. В таком случае и приказ, отданный нашему «локальному» победителю, был также глуп и бессмысленен.
3. Соответственно, его выполнение привело бы к еще большему ухудшению ситуации.
4. Напротив, мы видим, что отказ от выполнения приказа привел к пусть локальному, но все же успеху (вновь – хотя бы только на страницах мемуаров).
5. Вывод: совершенно очевидно и убедительно доказывается фактами, что отказ умного подчиненного от выполнения приказа глупого начальника был совершенно правилен.
29
Так впервые проявился один из главных принципов танковой войны: безвозвратные потери боевых машин на поле боя играют малозначительную роль, ибо подбитые танки (причем обеих сторон) ремонтирует тот, за кем осталось это поле. Поэтому под Прохоровкой немцы уже активно использовали специальные подрывные команды, задачей которых было уничтожение подбитых вражеских танков, оставшихся в немецком тылу или даже на нейтральной полосе. И все равно основные потери в танках на Курской дуге вермахт понес не в танковых боях, а в ходе последующего отступления – когда советские войска захватили множество тыловых ремонтных баз, где скопились поврежденные танки, не занесенные в списки безвозвратных потерь.
30
Часто персонифицируемые в божестве, именуемом «невидимой рукой рынка».